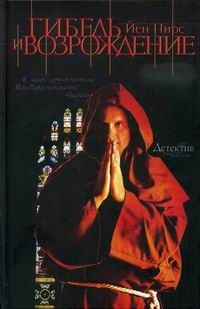Разговор начал утомлять Джонатана. Подобные речи всегда вызывали у него нечто вроде приступа клаустрофобии. Он вдруг страстно захотел мгновенно перенестись в какое-нибудь другое место. Опасаясь подтолкнуть женщину к дальнейшим излияниям и в то же время не желая показаться грубым, он равнодушно произнес:
— Да, в самом деле.
— Они перестали пускать сюда людей; это так грустно и так неправильно. Церковь должна быть открыта, чтобы все желающие могли прийти к ней и попросить ее заступничества. Или поблагодарить.
— Э-э…
— Сейчас сюда могу входить только я. Я ухаживаю за ней…
— Доброе утро!
Голос прогремел как пушечный выстрел, отразившись эхом по каменным стенам. Одновременно с ним сумрак церкви пронзил яркий сноп света. В двери вошел Дэн Менцис.
— Чао, синьора, — бодро приветствовал он уборщицу. — Как себя чувствуете сегодняшним утром?
— Доброе утро, синьор, — вежливо ответила уборщица и, подхватив свое ведро, принялась за работу.
Менцис состроил Аргайлу гримасу и пожал плечами. С некоторыми людьми очень трудно общаться, казалось, говорил он.
— А вы кто будете?
Аргайл начал объяснять. Менцис тем временем достал из кармана связку ключей и махнул ею в сторону перегородки, отделявшей его временную мастерскую.
— А я вас уже встречал — в университете, точно? Проходите, проходите. Поглядите мою мазню, если вам так надо. Хотите доказать, что это настоящий Караваджо?
— Или наоборот.
— Вот это ближе к истине, на мой взгляд.
— Почему вы так думаете? Менцис покачал головой:
— Стиль в принципе соответствует. Но по мастерству не дотягивает. Впрочем, с чем сравнивать? Оригиналов почти не осталось, все переписано в девятнадцатом веке. Кстати, почему бы вам не написать на эту тему диссертацию? О том, как девятнадцатый век практически уничтожил все итальянское искусство? Они столько напортачили, сколько не смогли все современные реставраторы. Чтобы о нас ни говорили, мы очень бережно относимся к оригиналам по сравнению с тем, что было тогда.
— Я обдумаю ваше предложение. Пока я разрабатываю более скромную тему.
— Ваш девиз: напечататься или умереть? Ха.
— Не совсем так.
— Ну, вот она. Не пугайтесь, я еще не закончил, хотя уже близок к завершению, несмотря на все усилия отца Ксавье мне помешать.
Менцис распахнул перед Аргайлом дверь.
— А кто это — отец Ксавье?
Он здесь за главного. Вбил себе в голову, что Караваджо могут украсть. Видать, полицейские нагнали на него страху. Они приезжали сюда. Вы можете себе представить: этот недоумок предложил мне скатывать холст каждый вечер в рулон и запирать его на ночь в шкафу. Я пытался объяснить ему, что это невозможно, но вы же знаете, какие идиоты эти люди. Откровенно говоря, мне трудно представить, чтобы кому-нибудь захотелось иметь у себя это произведение, даже если бы оно находилось в отличном состоянии. Абсолютно не в моем вкусе. Тем более сейчас. Взгляните. Я зажгу свет.
Внезапно холодный сумрак алтаря залил резкий, ослепительный свет. От неожиданности Джонатан ахнул.
— О Господи! — вымолвил он.
— Что уж так реагировать? — нахмурился Менцис. — Вы разве совсем не знакомы с реставрацией?
— Да как-то не очень.
— Ну так поинтересуйтесь. По-моему, нелепо заявлять, что ты разбираешься в искусстве, не зная азов важнейшей части живописного ремесла.
Аргайл хотел сказать, что всегда считал важнейшей частью живописного ремесла написание картин, но никак не реставрацию, однако в спор вступать не захотел.
— Я знаю только, что сейчас картина выглядит как после драки в пивной, — сказал он, защищаясь. — Все кругом заклеено пластырем…
— Господи, как же я ненавижу дилетантов! — с ожесточением воскликнул Менцис. — Дальше вы скажете, что нужно уважать первоначальный замысел автора.
— Разве это не является основой вашего ремесла?
— Конечно. В том случае, если вам известно, каков он был, этот замысел. Но по большей части вы его не знаете. Как правило, мы имеем дело с квадратным метром отслаивающейся краски. Зачастую наложенной поверх оригинала кем-то еще. Вы же не думаете всерьез, что сам Караваджо пририсовал этому мужчине в углу бакенбарды, которые начали носить в девятнадцатом веке?
— Ну, не знаю…
— А я знаю. Не мог он этого сделать. Но сто лет назад кто-то смыл лицо, написанное художником, и намалевал совершенно другую физиономию. По моим прикидкам, это произошло вскоре после того, как картина попала сюда.
— Разве она не была написана специально для этой церкви?
— О нет. Конечно же, нет. Вы только взгляните на нее. Она абсолютно не вписывается в архитектуру.
— А как же она здесь появилась?
— Не все ли равно? Меня это не волнует.
— Как вы думаете: кто-нибудь может это знать?
— Наверное. Если вам это интересно, поищите в архиве. У них тут, по-моему, хранятся тонны бумаг. Нет, но это лицо! Когда я удалил верхний слой, под ним ничего не оказалось. Теперь мне придется придумывать что-то самому, исходя из общего стиля. Ей-богу, просто «угадай-ка» какая-то! Но лицо нужно написать, никуда не денешься. Конечно, все эти разговоры о минимальном вторжении в мир художника очень хороши, но, как правило, об этом говорят люди, абсолютно не разбирающиеся в том, о чем берутся судить.
— Я больше интересуюсь историей живописи.
Менцис пожал плечами:
— В таком случае вам — в архив. Спросите отца Жана. Сейчас он заведует архивом, хотя не думаю, чтобы он успел как следует его изучить. Вот старикан, который был до него, тот был дока.
Аргайл пошел искать отца Жана. Им снова овладело нетерпеливое желание перебирать страницы старинных манускриптов и чувствовать запах вековой пыли в своих волосах.
Поручив Джулию нежным заботам Мэри Верней, Флавия осталась в ресторане и заказала еще бутылку вина. Она имела все основания считать, что работает. Налаживание контактов являлось важным элементом ее профессии и, к слову сказать, не самым неприятным: владельцы галерей, может быть, и прохвосты, но зато они всегда щедро угощали ее вином, закуской и приятной беседой. Подобные выходы в свет им были необходимы для поддержания имиджа и привлечения богатых клиентов. Аргайл всегда пренебрегал этой стороной бизнеса, что негативно сказывалось на его доходах. Он так и прозябал бы до сих пор в нищете, если бы его не пригласили преподавателем в университет. Флавия радовалась, что он принял это приглашение: во-первых, с увеличением зарплаты его характер изменился к лучшему; а во-вторых, занимаясь торговлей картинами между делом, он продал гораздо больше, чем тогда, когда посвящал этому все свое время.
Флавия любила встречаться с торговцами картинами — еще один аргумент против того, чтобы уйти вместе с Боттандо в евроструктуру: ей было далеко не все равно, с кем общаться. Конечно, когда ей приходилось отправлять на скамью подсудимых человека, который незадолго до этого угощал ее обедом в ресторане, она испытывала некоторую неловкость, но тут уж ничего не поделаешь. Вся ее работа состояла из встреч с сомнительными людьми. Разумеется, она делала им кое-какие поблажки и смотрела сквозь пальцы на мелкие нарушения вроде неуплаты налогов. Иногда могла и предупредить о возможных неприятностях, обронив в разговоре фразу вроде: «В ближайшие полгода я поостереглась бы иметь дело с тем-то и тем-то» — или: «Если вы планировали купить этого Доменичино на аукционе, который состоится в конце следующей недели, советую вам еще раз хорошенько подумать». Ну и тому подобное.
В свою очередь, она ждала, что они будут регулярно сливать ей интересующую ее информацию. В противном случае она могла сообщить в налоговую об известных ей нарушениях или провести проверку в галерее в момент совершения крупной сделки с очень перспективным клиентом.
Конечно, все эти угрозы никогда не произносились: зачем обижать людей? Флавия просто мило болтала, попивая вино или кофе с очередным подопечным, — и оба они прекрасно знали, на чьей стороне сила.
Джузеппе Бартоло, к которому ее принесли ноги после нескольких бесплодных визитов к другим дилерам, был старым мудрым филином. Вернее, старым хитрым лисом. Он знал правила игры не хуже нее, будучи вдвое старше и во сто крат проницательнее. В сущности, он сам и познакомил Флавию с этими правилами, взяв ее под свою опеку, когда она была почти такой же юной, как Джулия, и еще более неопытной. Также как и Боттандо, только под другим ракурсом, он посвятил ее в тонкости бизнеса, связанного с торговлей произведениями искусства. Приятельские отношения с синьориной ди Стефано он рассматривал как некую страховку: ему было отлично известно, что его дело уже не вмещается в папку — контрабанда, скупка краденого, уклонение от налогов, членство в аукционной мафии, подделка произведений искусства, мошенничество и многое другое висело на его совести. В общем, это был человек, приятный во всех отношениях. И кстати, очень милый собеседник, умеющий к месту рассказать анекдот или какую-нибудь забавную историю.