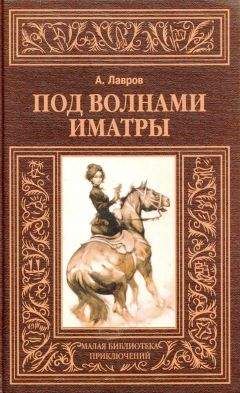Молодая девушка вошла в ярко освещенную переднюю. Ни малейшей роскоши здесь не было заметно, все было просто и вместе с тем опрятно. В гостиной, куда она перешла потом, было так же бедновато, но уютно. Марья Егоровна присела к столу и еще раз огляделась вокруг.
– Не прикажете ли чаю? – спросил стоящий на пороге слуга.
Воробьева взглянула на него. На обыкновенных слуг-профессионалов этот человек походил мало. Глядя со стороны, трудно было подумать, что это – заурядный лакей, служащий небогатому молодому человеку; манеры, тон голоса говорили о том, что этот человек недавно исполняет лакейские обязанности.
Марья Егоровна не замечала, как летит обыкновенно томительное время ожидания. Внезапно народившееся чувство все росло и росло в ее сердце. В этой простенькой и бедно обставленной комнатке было так хорошо, так уютно, что Марья Егоровна так бы вот и осталась здесь. Как ей мила становилась эта бедноватая обстановка! Показная роскошь и великолепие давным-давно уже наскучили, стали противны даже. Контраст с тем, что было раньше, поразил молодую девушку, пробудил любопытство и навел на такие мысли, какие ранее никогда не приходили ей в голову…
„Жить в бедности и отказываться от богатства, которое само дается в руки, – думала Марья Егоровна, – ведь это же геройство, это самопожертвование!… ради кого? Ради совершенно неизвестного существа… Нет, человек, способный на это, не может быть дурным!…“
Вдруг на смену восторгу явились новая мысль, новое чувство.
Молодая девушка вдруг вся как-то сжалась, притихла; на сердце у нее стало опять тяжело.
«Он мне возвратил свободу, он мне сказал, что я вольна в себе, – думала она, – но, может быть, все это он сделал вовсе не ради меня… Может быть, у него есть женщина, которую он любит уже… А я… я…»
Марья Егоровна почувствовала, что слезы подступают к горлу.
Марья Егоровна порывисто поднялась с места и прошлась в волнении по комнате.
„Да, это так, так, и быть иначе не может! – думала она. – Тогда зачем же я здесь? Бежать, скорее бежать… Что он может подумать обо мне? А если вдруг явится сюда та – другая?“
Тихое покашливание прервало эти размышления. Марья Егоровна оглянулась. В дверях стоял слуга.
– Что-то запаздывает Алексей Николаевич? – проговорил он. – Давно пора ему и дома быть!
– Вероятно, что-нибудь задержало господина Кудринского! – холодно произнесла молодая девушка. – Я более не могу его ждать, я уезжаю… Передайте вашему барину, что я буду ожидать его завтра у себя…
– А как позволите сказать ему о вас?
– Я – Воробьева… приезжая…
– Марья Егоровна, госпожа Воробьева? – вдруг вскричал слуга, – батюшки, да как же это я вас по портрету не признал?
– По портрету? – удивилась молодая девушка. – По какому портрету?
– Да по вашему портрету… Вы ведь как вылитая изображены… Право! Не угодно ли взглянуть?
Не дожидаясь согласия гостьи, Петр поспешно распахнул дверь в соседнюю комнату.
– Пожалуйте, – проговорил он, отстраняясь, чтобы пропустить Марью Егоровну, – здесь кабинет Алексея Николаевича.
Слова Петра подстрекнули любопытство Маши. Она нерешительно подошла к дверям кабинета.
– Пожалуйте, – уже настойчиво произнес Петр, – темновато здесь немного, я сейчас прибавлю свету…
В кабинете горела всего только одна настенная лампа, но, несмотря даже на этот слабый свет, Марья Егоровна, как только вошла, сейчас же увидала на стене свой написанный масляными красками портрет. Он давно уже был ей знаком. Года два тому назад покойный Егор Павлович заказал его лучшему из парижских портретистов, но Маша видела его только раз или два. Потом портрет исчез, и отец на расспросы дочери о том, куда он девался, всегда отмалчивался.
Теперь этот самый портрет был перед нею в кабинете Кудринского.
Сердце Марьи Егоровны радостно забилось… Разом отлетели все недавние еще сомнения и подозрения.
– Уж я и сам не знаю, как это я вас сразу не узнал, – говорил Петр, – ведь почти два года ваш портрет изо дня в день вижу… А барин-то, барин! Частенько это бывает: подойдет он к портрету, станет, и глаз с него не спускает… часами порой выстаивает… А не то возьмет скрипку и начинает играть; жалостно так играет, плакать хочется… до того за душу берет… Да что далеко ходить! Сегодня перед тем, как вот уйти, подошел, глядит на ваш портрет, слезы текут, а он шепчет: „Прощай, навсегда прощай“. И что это значит – ума не приложу! Да ведь у нас и не один этот портрет… Извольте взглянуть! Вот опять вы, совсем еще девочкой…
Петр зажег все лампы и при последних словах указал рукой на стену, противоположную той, где висел портрет Марьи Егоровны.
– Взгляните, пожалуйста, – сказал он, – тут найдется и ваш папенька.
Молодая девушка вскрикнула от невольного изумления. Со стены глядел на нее прекрасный портрет ее покойного отца, вокруг же этого портрета в изящных рамах были развешаны все ее когда-либо существовавшие фотографические портреты. На некоторых из них Маша была снята еще маленькой девочкой, на других – подростком. Были и недавние портреты, снятые во время заграничного путешествия. О них, очевидно, заботились. Ни одной пылинки не было заметно ни на стеклах, ни на рамах, все было тщательно вытерто чьей-то заботливой рукой.
Марья Егоровна заметила это.
– Барин сам ходит за этими портретами, – словно угадывая мысли молодой девушки, произнес Петр, – с других картин я пыль обметаю, а к этим он и не допускает.
В передней звякнул звонок.
– Алексей Николаевич! – воскликнул Петр. – Простите, оставлю вас, пойду отопру дверь.
Союзники
А тем временем произошло объяснение Кудринского с Марьей Егоровной, во время которого Алексей Николаевич рассказал, что, будучи сиротой, попал в шайку воришек и находился на краю гибели. Спас его Егор Павлович, который вырвал мальчишку из дурной среды, устроил в честную семью, заботился о его воспитании.
Алексей Николаевич предложил Воробьевой свою дружбу, и та с благодарностью приняла это предложение. Но в душе ее зародилось чувство гораздо более сильное, чем дружба.
Новая загадка
Алексей Кондратьев божился и клялся на все лады, что он видел отвратительную гадину своими собственными глазами, которым даже убедительно предлагал лопнуть, если змеи не было, но добродушный хохол на все эти уверения флегматично отвечал:
– А ты мне покажи змею эту самую, вот я тебе и поверю; а если глаза твои лопнут – мне-то что!
В конце концов, змея «взята была под сомнение», и уже после полудня Петербург весело смеялся над своими утренними страхами.
Однако прогулки на место появления змеи не прекращались. Веривших в „змею“, особенно среди простолюдинов, было порядочное количество, а среди сходившегося на запасные пути народа Алексей Кондратьев был героем дня. Все его разглагольствования терпеливо выслушивались, и ему даже перепадало от слушателей кое-какое угощение.
– Ну, братцы, не приведи бог, и перепугался же я! – чуть не в сотый раз передавал он свои впечатления. – Иду это я на дежурство, значит, и думаю себе, представить или награду получить?
– Кого представить, – раздались вопросы, – змею, что ли?
– Нет, какое, змею! Портрет…
– Чей портрет?
– А кто его знает, чей?… Вагоны тут убирали, так нашли… так, ледащенький человек изображен… Краше в гроб кладут… в вагоне первого класса в щелочку между спинкой и сиденьем ушел, там его и нашли… Лежит себе спокойно…
– Так отчего же не представили?
– Кондуктора проморгали, а нам что за дело… Не наша это обязанность…
– А где у тебя этот портрет? – вдруг выдвинулся из толпы слушателей один, по виду мастеровой из железнодорожных мастерских.
Кондратьев подозрительно посмотрел на него.
– А тебе, мил человек, что за дело? – спросил он.
– Да так, к слову спросить пришлось.
– То-то к слову! Спрятан он у меня, вот где! Может, публикация какая будет, тогда и объясню, моя награда будет… уж и загуляю тогда, только держись!
– Брось про портрет, ты про змею! – послышались требования нетерпеливых слушателей.
– Что змея? Змея, как ей быть должно, была да убегла… теперь портрет…
– А ты о нем уже заявлял кому-нибудь? – вступился опять спрашивавший в первый раз о портрете мастеровой.
Он говорил тихо, значительно понижая голос, так что его слова слышали лишь немногие.
– Кому заявлял?
– Да вот хоть бы Раките, околоточному вашему…
– Вот чудачья голова, а еще мастеровой! Так я и буду от своего счастья отказываться!… На портрете-то имя, отчество и фамилия назади прописаны… Уж и сдеру же я награду-то… ух! потому причину имею для этого.
– Про змею рассказывай, про змею!
Кондратьев встрепенулся. Ему очень льстило это общее внимание.
– Полюбился ты мне, парень, – хлопнул мастеровой его по плечу, когда рассказ был кончен. – Выпить желаешь?