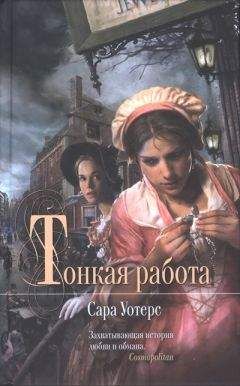Ознакомительная версия.
Так я сказала себе, и вот часы стали медленно, неторопливо отбивать десять утра. Человек, ходивший у виселицы, встал внизу, тюремные двери распахнулись, на крыше показался священник, потом несколько надзирателей. Я не смогла. Отвернулась от окна и закрыла лицо руками.
Я знаю, что было потом, поняла это по звукам, доносившимся с улицы. Все смолкли, когда стали бить часы и вышел священник. Теперь все засвистали и зашипели — это появился палач. Ропот растекался по толпе, как масло по воде. Когда крики стали громче, я поняла, что палач раскланивается или подает еще какой-нибудь знак. Потом внезапно гул повторился, усилился и, вибрируя, прокатился по улицам — громкое «Шапки долой!», перебиваемое взрывами дикого смеха. Должно быть, вышла миссис Саксби. Всем не терпелось на нее посмотреть. Мне стало совсем плохо, как только представила эти любопытные глаза, вылезающие из орбит, — я же не могу даже головы повернуть в ее сторону. Не могла я. Не могла повернуться, не могла оторвать от лица потные ладони. Могла только слушать. Я слышала, как смех затих, кто-то прикрикнул: «Тише!» Это священник принялся читать молитвы. Слышно было лишь, как бьется мое сердце. Потом сказали: «Аминь!», и пока это слово летало, подхваченное толпой, другая часть зрителей, кто стоял ближе к тюрьме и потому им было лучше видно, вдруг зашептались... И этот шепот усиливался, нарастал, пока не перерос в нечто, подобное стону... И я поняла, что это означает: ее вывели на эшафот и теперь связывают ей руки, закрывают лицо и накидывают на шею петлю.
А потом, потом настал миг, просто миг — короче, чем само это слово, — жуткой, жутчайшей тишины: дети не плакали, люди стояли не дыша, прижав руку к сердцу и открыв рот, кровь стыла в жилах, и в висках билась одна мысль: «Не может быть, нет, этого не будет, это невозможно». А потом — молниеносно — стук падающего люка, сопровождаемый визгом, утробное: «Ах!», когда веревка натянулась до предела, словно у толпы был общий живот и какой-то великан вдруг стукнул по нему.
Только теперь я открыла глаза, но лишь на секунду. Открыла, обернулась и увидела — не миссис Саксби, нет, вовсе не миссис Саксби, а какую-то фигуру, болтающуюся и покачивающуюся, что вполне могло быть портняжным манекеном, сделанным в виде женской фигуры, в корсете и в платье, но с безжизненно висящими руками и с повисшей головой, похожей на мешок, набитый соломой.
Я отвернулась. Я не плакала. Я подошла к кровати и легла. Звуки опять сменились, словно люди вдруг обрели дыхание и дар речи — отпустили детей, раскрыли рты и затопали и загалдели пуще прежнего, чуть не в пляс пошли. Опять раздалось улюлюканье, крики, злобный хохот и, наконец, «ура!». Я и сама раньше так выкрикивала, не понимая смысла, в дни казней. Но теперь, когда раздался этот вопль, я, несмотря на горе, поняла, что он значит. Это все равно что сказать: «Она мертва. Она умерла — а мы живы».
Вечером опять пришла Неженка, принесла ужин. Но мы не съели ни крошки. Только плакали и рассказывали друг другу об увиденном. Она ходила смотреть вместе с Филом и другими племянниками мистера Иббза и стояли довольно близко к тюрьме. Джон же заявил, что только дураки оттуда смотрят. Один человек обещал ему место на крыше, и он ушел к нему. Я подозревала, что Джон вообще не смотрел, но Неженке об этом не стала говорить. Сама же она видела все, кроме последнего — когда упала крышка люка. Фил, который даже это видел, сказал, что все прошло очень чисто. Он решил, что правду люди говорят, будто палач для женщин вяжет особые узлы. Все тем не менее согласились, что миссис Саксби была смелой и держалась до самого конца.
Я вспомнила болтающуюся портновскую куклу в тугом корсаже и в платье и подумала: если бы она брыкалась и извивалась, как бы мы это заметили?
Но об этом не следовало думать. Следовало подумать о другом. Я снова стала сиротой и, как и все сироты, через две-три недели начала, с замирающим сердцем, озираться вокруг, стала наконец понимать, что мир вокруг мрачен и неприветлив и мне придется самой пробивать себе путь, без чьей-либо помощи. Денег у меня не было. Плата за аренду мастерской и за дом выпала как раз на август: уже приходил какой-то человек и барабанил в дверь, а ушел, только когда Неженка засучила рукава и пригрозила побить его. И он с тех пор оставил нас в покое. Наверное, о доме пошла недобрая молва и никто не хотел жить в нем. Но ясно же, что потом, со временем, все забудется. Когда-нибудь, в один прекрасный день, тот человек вернется и приведет с собой других, и они взломают дверь. Где мне тогда жить? И как я буду жить, одна-одинешенька? Может, думала я, найти постоянную работу — в молочной лавке, или в красильне, или у скорняка. Но при одной только мысли об этом мне делалось нехорошо. Все в моем окружении знали, что постоянная работа значит еще и другое: обираловка и скука смертная. Лучше уж оставаться мошенницей. Неженка сказала, что знает трех девчонок из шайки карманниц в Вулвиче, и им нужна еще одна... Но она сообщила об этом, не глядя мне в глаза, потому что мы обе знали, что уличное воровство — это совсем не то, к чему меня готовили...
Но делать было нечего, и я подумала: ну и пусть. Искать что-нибудь получше у меня не было сил... У меня вообще ни на что не было сил, ничего не хотелось. Понемножку все, что еще оставалось на Лэнт-стрит, исчезло — было отдано под залог или продано. Я по-прежнему ходила в светлом ситцевом платье, которое украла у деревенской жительницы, только теперь оно смотрелось на мне ужасно, потому что я исхудала похлеще, чем была у доктора Кристи. Неженка говорила, что я тощая, как иголка, — остается только нитку продеть.
И вот, после того как я собрала вещи, которые собиралась взять с собой на Вулвич, вроде и не осталось ничего. А когда я подумала, что надо бы зайти к знакомым попрощаться, я никого не могла вспомнить. Теперь мне оставалось только одно дело: прежде чем уйти, я должна была забрать вещи миссис Саксби — из тюрьмы.
Я взяла с собой Неженку. Мне казалось одна я не выдержу. Дело было в сентябре — больше месяца прошло после суда. Лондон с тех пор изменился. Наступила осень, и дни стали прохладнее. По улицам ветер гонял пыль, солому и опавшие скрученные листья. Тюрьма выглядела еще более неприветливой и угрюмой, чем прежде. Но привратник узнал меня и пропустил. Он смотрел на меня, как мне показалось, с жалостью. И надзирательницы тоже. Они уже приготовили для меня вещи миссис Саксби — это был сверток из вощеной бумаги, перевязанный бечевкой. «Выдано дочери», — так записали в своей книге и велели мне поставить подпись. Теперь, побывав в заведении доктора Кристи, я могла не моргнув глазом написать свое имя... Потом они проводили меня, мы шли по двору, по серой тюремной земле, в которой, я знала, была зарыта миссис Саксби, и не было на ее могиле ни камня, ни надписи, и никто не мог прийти и ее оплакать. Дошли до ворот, над которыми была низкая плоская крыша — здесь тогда возвели эшафот. Каждый день тюремщики проходят под этой крышей, и им хоть бы что. Когда стали прощаться, они попытались взять меня за руку. Но я не подала им руки.
Сверток был легкий. Но все же я несла его домой с немалым чувством страха, и от страха он казался мне тяжелей, чем был на самом деле. Когда я вернулась на Лэнт-стрит, я еле стояла на ногах — быстро положила сверток на кухонный стол и встала над ним в замешательстве. Чего опасалась? Что все-таки придется открыть его и я увижу ее вещи? Я представила, что может быть внутри: туфли, чулки, вероятно до сих пор хранящие форму ее ноги, нижние юбки, ее гребень с застрявшими в зубьях волосами... «Не делай этого! — говорила я себе. — Оставь как есть! Убери! Потом когда-нибудь откроешь, не сегодня, не сейчас...»
Я села и посмотрела на Неженку:
— Знаешь, я не могу.
— Думаю, ты должна, — сказала она. — У нас с сестрой было то же самое, когда нам выдали из морга то, что осталось от матери. Мы положили этот пакет в ящик и не притрагивались к нему ровно год, а когда Джуди открыла его, платье все насквозь прогнило, а туфли и капор превратились в труху, потому что слишком долго лежали сырые. И у нас никакой памяти о маме не осталось, кроме маленькой цепочки, которую она никогда не снимала. Ну, и папаша в конце концов заложил ее, когда выпить не на что было...
Губы у Неженки задрожали. Мне не хотелось, чтобы она плакала.
— Хорошо, — согласилась я. — Ладно. Сейчас открою.
Но руки мои все еще тряслись, и, когда я придвинула сверток поближе и попробовала развязать бечевку, оказалось, что узел завязан слишком туго. Тогда попыталась Неженка. Но и она не сумела развязать бечевку.
— Нужен нож, — сказала я, — или ножницы...
Было время, после смерти Джентльмена, когда я без содрогания не могла смотреть не то что на нож, вообще на любое лезвие, и я уговорила Неженку забрать все острое и унести — так что в доме не осталось ни одного режущего предмета. Я снова принялась теребить узел, но теперь я нервничала, и руки у меня вспотели. Тогда я попыталась развязать узел зубами, и в конце концов бечевки расползлись и тугой сверток развернулся. Я отступила в испуге. На стол вывалились туфли миссис Саксби, ее нижние юбки и гребень — как раз этого я и боялась. А поверх них, черное и расплывающееся, как смола, легло старое платье из тафты.
Ознакомительная версия.