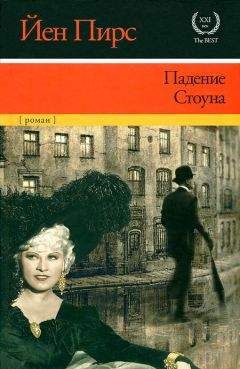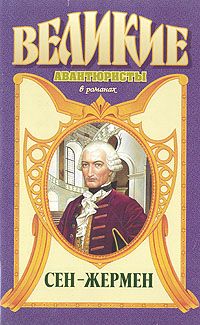— И мораль сей истории: никогда не будьте недобры к нищим, — сказал я.
— Нет, — ответила она тихо. — Не выходите замуж за человека жестокого и бессердечного.
Я пришел в себя и попятился. Что произошло сейчас? Я не знал. Но ощущение было такое, будто меня пронизал разряд тока. Я был в шоке. Не из-за истории, а из-за рассказчицы и того, как она рассказывала.
То, как ее глаза были устремлены на меня, вот в чем была истинная причина шока, лежавшая за гранью приличий, на которую я отозвался. Или нет. Может, я просто вообразил, а может, она отозвалась на меня.
— Я огорчен, что путешествую столь невежественно, — сказал я.
— Может быть, вы нуждаетесь в проводнике?
— Может быть, и так.
— Может быть, вам следует обратиться к моему мужу, — сказала она и заметила разочарование на моем лице. — Я уверена, он разрешит мне показать вам достопримечательности города.
Опять эти глаза.
— Надо ли мне спрашивать его разрешения?
— Нет, — сказала она с намеком на презрение в голосе.
— Я не хотел бы затруднять вас. Я уверен, вы очень заняты.
— Думаю, я могла бы уделить вам некоторое время. Мне это доставит большое удовольствие. Мой муж все время повторяет, что мне следует чаще выходить из дома. Он знает, насколько здесь все пусто для меня, хотя сам ничего не меняет, только извиняется.
Я не мог выкинуть эту встречу из головы ни сразу, ни потом. Она, как и мое чувство к городу, закреплялась во мне незаметно для меня. Но я осознавал, что то, что я видел и делал, сливалось с моими мыслями до той степени, когда я уже почти не отличал одного от другого. Хотя я желал развеять этот дурман, я также желал, чтобы это странное состояние продолжалось. Такая роскошь — подчиняться малейшему импульсу, позволять любой мысли приходить мне в голову, отбросить дисциплину, которую я тщательно культивировал. Не быть самим собой, собственно говоря.
Мне требовалось общество, чтобы отвлечься, а еще я хотел узнать побольше о Луизе Корт. Какова ее история, ее натура? Почему она так разговаривала со мной? Что она за человек?
К тому моменту у меня были всего две встречи с ней, и обе короткие. Недостаточно, чтобы объяснить ее место в моих мыслях. Бесспорно, ни одна другая женщина — а я уже познакомился со многими более обворожительными, более красивыми, более примечательными во всех отношениях — не воздействовала на меня столь быстро. Большинство я забывал сразу же, едва они исчезали с моих глаз.
Несколько дней спустя я отправился в ресторан, так как вновь нуждался в обществе, чтобы заполнить пустые часы. Маркиза была вполне счастлива кормить меня за экстравагантную дополнительную плату, но ее кухарка оказалась ужасной, а маркиза категорически настаивала на трапезах в старом столовом зале по всем правилам этикета. Только она и я на противоположных концах очень длинного стола. Разговаривать было по меньшей мере трудно, и главными звуками были позвякивания столовых приборов и производимые ею, поскольку ее вставные челюсти не были безупречно подогнаны и после каждого кусания их приходилось всасывать на место.
К тому же по крайней мере один раз в течение каждой трапезы ее лицо обретало грезящее выражение, которое, как я вскоре понял, было сигналом неминуемого Посещения из Потустороннего Мира. И сверх всего — отсутствие газового освещения, и с наступлением сумерек единственным источником света могли быть лишь свечи, а огромная многоцветная люстра в моей гостиной, хотя и вмещала несколько десятков свечей, не зажигалась, полагал я, еще задолго до того, как почила Серениссима. Она чернела копотью былого употребления и покрылась густой пылью от неупотребления. Света она не давала, и невозможно было читать после обеда.
Как ни странно, я хотел новой встречи с Макинтайром. Он пробудил во мне любопытство, и мой интерес подогревался желанием узнать точно, что, собственно, ланкаширский инженер делает в городе, таком далеком от любой промышленности. А потому я завязал с ним разговор, игнорируя Корта и Дреннана, единственных других посетителей, бывших там в этот вечер.
Непростая задача, поскольку искусством беседы Макинтайр не владел. Либо он вообще не отвечал, либо односложно, а так как ел он, запивая, разобрать его слова было трудно. Все мои старания выражать интерес, задавать осторожные вопросы встречались бурканьем или ничего не значащими ответами.
В конце концов он вывел меня из терпения.
— Что вы делаете в этом городе? — грубо спросил я.
Макинтайр посмотрел на меня и чуть улыбнулся.
— Так-то лучше, — сказал он. — Если хотите что-нибудь узнать, спрашивайте. Не выношу эту манеру кружить вокруг да около.
— Я не хотел быть грубым.
— Что грубого в любопытстве? Будь оно о вещах или людях? Если хотите что-то узнать, так спрашивайте. Если я не захочу ответить, я вам прямо скажу. Почему я должен считать это грубым?
Он вытащил из кармана трубку, не обращая внимания, что остальные еще едят, быстро набил ее и закурил, выпуская большие облака смрадного, удушливого дыма в воздух, будто локомотив, готовящийся к долгой поездке. Затем он отодвинул свою тарелку и положил оба локтя на стол.
— Так как же вы оказались тут?
— Случайно. Я работаю по найму, на верфях главным образом. Свое ученичество я прошел у «Лэрда» в Ливерпуле.
— Делая?
— Да все. Потом я работал в маленькой компании, занимавшейся разработкой разного вида корабельных винтов. К тому времени как я ушел, я был начальником конструкторского бюро.
Сказал он это с гордостью, почти с вызовом. Он, вероятно, привык к выражению безразличного равнодушия от того типа людей, с какими сталкивался в Венеции, смотрящих на разработку корабельного винта как на недостойный внимания пустяк.
Мне хотелось расспрашивать еще. «Лэрд» была солидная компания, ее корабли устанавливали стандарты для других судостроительных компаний. Но он уже встал.
— Слишком длинная история для этого вечера, — сказал он ворчливо. — Если вам интересно, могу и рассказать. Загляните ко мне в мастерскую, если у вас есть настроение слушать. А мне надо идти, заняться моей дочкой.
— Я буду очень рад, — сказал я. — Не могу ли я угостить вас ленчем?
— Там, где я работаю, ресторанов нет, — отрезал он, но говорил он теперь мягче, горечь обиды его отпустила. Попрощался он почти вежливо.
— Ну, вы человек привилегированный, — протянул Дреннан, когда мы оба надевали плащи. Погода оставалась прекрасной, но ночной воздух неуклонно становился все холоднее. — Что вы сделали, чтобы войти к нему в милость? Никто еще не допускался в эту его мастерскую.
— Может, я просто проявил интерес? Или, может, был столь же груб, и он почувствовал родственную душу?
Дреннан засмеялся — приятный смех, легкий и дружеский.
— Может, и так.
Мастерская Макинтайра ничуть меня не удивила, когда я добрался до нее, припоздав, так как не сразу ее отыскал. Та часть Венеции, где он обосновался, не только была немодной среди венецианцев, но, готов держать пари, ни единый турист из тысячи ни разу ее не посетил.
Он арендовал мастерскую на верфи возле Сан-Николо да Толетино, в квартале, где все претензии на элегантность давно исчезли. Это не беднейшая часть города, но одна из самых непотребных. Многие тамошние обитатели, как мне говорили, никогда не доходили даже до Сан-Марко, и живут в своем квартале, будто в особом мире, никак не зависящем от остального человечества. Насколько я понял (хотя мое слабое знание языка исключало проверку), они даже говорят иначе, чем их сограждане, а силы закона и порядка редко проникают туда, и всегда с трепетом.
Их специальность — судостроение, но не величавых кораблей, некогда составлявших гордость Венеции и строившихся в противоположном ее конце, а разнообразных лодок и лодчонок, от которых зависит жизнь всей лагуны. Потребность привела к возникновению разных видов лодок, притом в манере, вполне удовлетворившей бы Дарвина, — специализированных настолько, что они способны выполнять одну функцию, и только одну, абсолютно завися от условий окружающей среды, чтобы выживать, уязвимых для перемен, которые могут положить конец целому классу конструкций. Некоторые преуспевают, некоторые терпят неудачу — так оно в жизни, в бизнесе и в венецианском судостроении.
Галера исчезла, уступив паруснику, точно так же, как парусник становится неизбежной жертвой парохода. Многие исчезли на протяжении моей собственной жизни, но их названия продолжают жить. Гондола, но также гондолина, фрегатта, фелукка, трабакколо, констанца — все они еще живы, но их дни, без сомнения, сочтены. Их исчезновение будет потерей лишь для эстетического чувства тех, кому не приходится управлять ими, ведь насколько лучше пароход почти во всех отношениях!