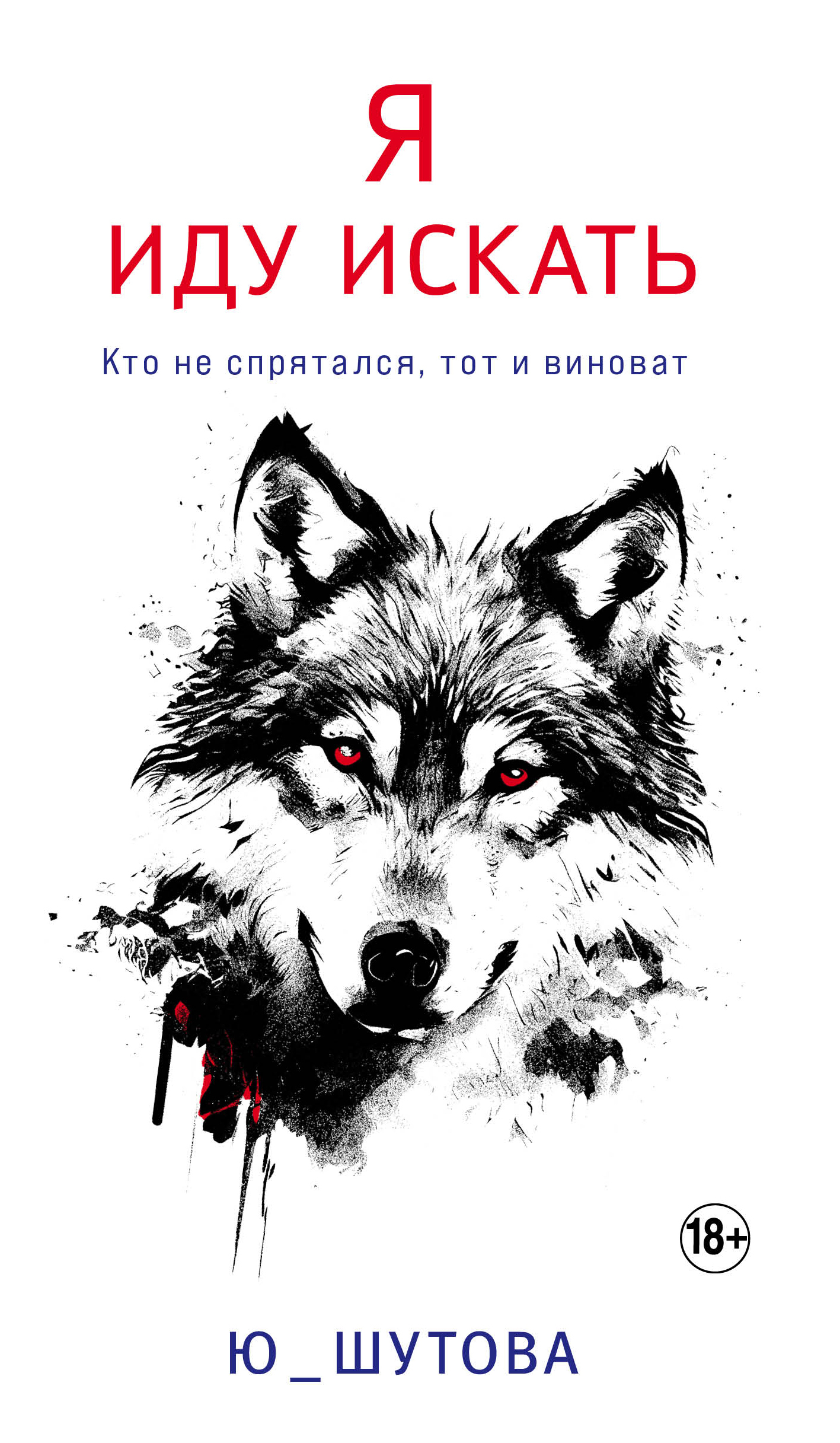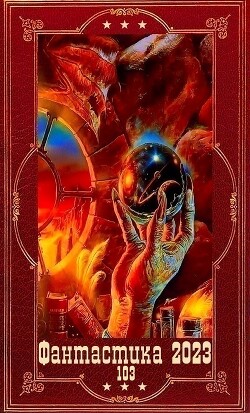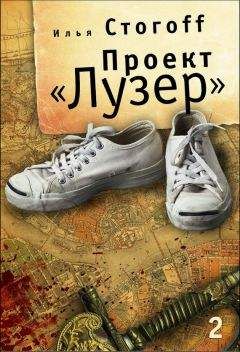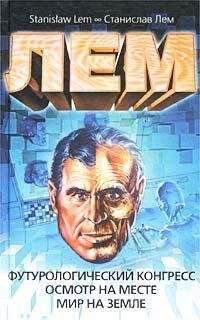поняла, почему мне часовня мерещится. Она где-то рядом. Она, Волчица. Где-то среди покупателей, здесь, в магазине. Я заозиралась: «Которая? Высокая девица в желтой шубке из синтетзверя? Нет. Тетка в черной коже с ног до головы? Нет, не она. Та? Эта? Другая?» Я понеслась кругами по магазину, вынюхивая, выгадывая, пытаясь выцепить ее из толпы. Попусту. Не получается. Но я чувствую, она здесь. А потом подумала: «Что это я? Действительно, очумела. Что мне, за руку незнакомую бабу хватать? Полицию звать – вот она, убийца, держите ее?» Кто мне поверит? Разве что она сама. И сбежит. Спрячется. Не так надо на нее охотиться. Как-то иначе. Это надо продумать.
Пошла на кассу. Стою и чую ее – спиной, затылком, всем телом чую.
Надо позвонить Полякову, сказать ему… Что ему сказать? Что я смогу узнать Волчицу, если встречу? Как там «Корни» пели?
Ты узнаешь ее из тысячи.
Ее образ на сердце высечен.
Как-то так. Он спросит: «Вы ее видели?» А я: «Нет. Но я поймала ее образ. Она у меня в голове, как в ловушке». Так он меня и послушает. Подумает, спятила тетка, с глузду съехала.
Ладно, отдам ему свои сайты. Пускай проверяют всех живущих там уродов. Найдут ее. Должны найти.
Мама говорила, сначала нас было двое. Близнецы. Разнополые. Хотя точно определить пол на восьмой неделе сложно. Но тогда нас было двое. А после десятой недели остался один. Она это рассказала, когда мне пятнадцать стукнуло. Зачем рассказала, я не поняла.
Мы у нее «от ветра» завелись. Ребенка очень хотела, а замуж идти, жить с кем-то не собиралась. Самостоятельная очень была. Самодостаточная. Она так про себя говорила. Вот и постаралась. Это не правда, не вся правда. Знаю, почему она замуж не вышла. Не нужна была никому. Сама любить не умела. Совсем одна была. Хотела быть нужной, в чужом тепле укрытой-согретой, чтобы улыбался ей кто-то, с работы ждал, приносил чашку горячего чая с лимоном и медом. Кто? Поди заставь постороннего мужика разглядеть именно тебя, утонуть в тебе. Не получалось. Стыдного жаркого счастья не получалось. Тогда пусть будет тихая радость, пахнущая молочной кашей и сиропом от кашля. Ребеночек, собственный, родной – он обязательно будет мать любить.
Тоже не получилось. Я не любила ее. Но она не знала. Не узнала.
Нас было двое. Значит, это я сожрала второго – своего брата, – высосала его жизнь. И отравилась. Поэтому я такая. Я так думала.
Но я ошиблась.
Недавно книгу прочитала. Так – муть, фантастика. И прочитала-то случайно, в кафе с буккроссингом с полки взяла наугад. Пока пила кофе, пролистала. Зацепило. Потом в инете нашла. Там про средневековую Японию – не настоящую, выдуманную. Как говорится, авторская версия. А суть в том, что убитый человек, жертва, возрождается в теле убийцы. Выдумка? Конечно. Но ведь все выдумки приходят откуда-то. Идеи порхают в воздухе легкокрылыми семенами одуванчиков, влетают в наши головы, прорастают. А мы потом на них турусы на колесах наворачиваем. Так что ее саму и не разглядишь сквозь налепленные поверх умопостроения. Но все идеи – они не из головы, они снаружи. Хоть информационным полем назови, хоть ноосферой, хоть богом – без разницы. Название значения не имеет.
Короче, я поняла тогда: не я его съела – он меня убил. Мой брат-близнец. Там, в теплой утробе нашей матери, в блаженном изначальном раю. Он убил меня. И я воскресла в его теле. В теле своего брата.
Ненавижу его. Ненавижу его тело, которое вынуждена таскать на себе всю жизнь, как карнавальный костюм, который невозможно сбросить. Ненавижу нашу мать. Эгоистка. Хотела окружить себя любовью. Родить эту любовь для себя. А родила меня, монстра. Хорошо, что она умерла до того, как узнала это. Хорошо, что мне не пришлось убить ее. Спасибо какому там гриппу – свинячьему, птичьему, – не важно. Спасибо атипичной пневмонии.
Ей повезло, что она умерла. Нам обеим повезло.
Я тоже хочу, чтобы меня любили. Поэтому – котята. Я приношу домой котенка, из приюта или с улицы. Маленького совсем. Пушистый комочек, круглые ушки, треугольный хвостик, доверчивые глаза. Он пищит, плачет, боится всего, не умеет толком ни есть, ни пить, пачкается сам, пачкает все вокруг. Под шерсткой – тоненькие косточки, как спичинки, только мягкие, гибкие. Как птенец, в руке сожми – и задавишь. Я его кормлю, глажу, играю с ним, кручу у него перед носом дурацкой бумажкой на веревочке. Я для него – все, все население планеты, вся Вселенная. Он радуется мне. Любит.
Потом котенок вырастает и начинает меня бояться. Чует во мне зверя. Прячется, пытается сбежать. Одним побег удается, других я сама отдаю в приют. Если успеваю. Тех, которых я не успеваю отдать, приходится закапывать. Во Власьевой роще. Я это место хорошо знаю. На лыжах там бегали зимой. Давно, когда я еще спортом всерьез занималась. Там раньше круг был в пять километров, лыжня, фонари, от гребной базы километр-полтора. Сейчас почему-то не делают. Да и какие лыжи, если всю зиму не снег, а холодные сопли с неба текут. Вот туда, в рощу, я своих коток и отношу. На пригорок возле ручья. Там их уже пятеро.
* * *
Все, что про оборотней, про вервольфов пишут, – чушь. Я все перечитала. Сказки, творчество народов мира.
Ночь полнолуния. Луна головой заплесневелого сыра нависает над черным лесом. Голый мужик на полянке. Лунная пряжа опутывает его. Он падает на колени. Мучительно изгибаясь, корежится, меняется его тело. Огромный, безмозглый, забывший все человечье волк воет, задрав башку к своему волчьему солнцу. Чушь. Все для создания страшной красоты момента.
Ничего такого нет.
Да, к полнолунию мы привязаны. Но не так однозначно. Перекидываешься и за сутки, и за двое-трое до волшебной ночи, и после тоже, и не обязательно прямо в полночь. Я, например, чувствуя, что вот оно приближается, по вечерам ухожу бегать. Уезжаю на окраину куда-нибудь поближе к реке – люблю, как вода пахнет, – и бегаю себе по тропинкам. Потом перекидываюсь и бегаю уже по-другому, до утра. Бегаешь, впитывая в себя чистую радость – как движутся твои мышцы под шкурой, как разлетается мокрая грязь и сухие листья из-под лап, как в нос врываются, заполняют собой весь разум запахи, звучат в мозгу, пляшут перед глазами разноцветной мерцающей пеленой. Восторг. А выть на луну