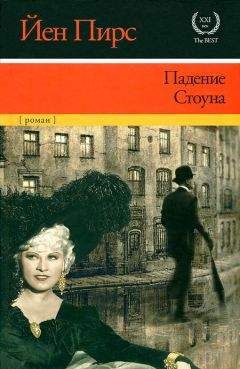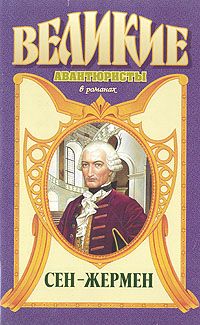Это возбуждало меня — мысль о ее возвращении к обязанностям жены: одежда в безупречном порядке, лицо спокойно и ничем не выдает то, как лишь несколько минут назад я прижал ее к стене и задрал ей платье, чтобы заставить ее кричать от наслаждения. Он этого сделать не мог. Я почти хотел, чтобы он узнал.
Однажды она отпрянула, когда я потянулся к ней. Я схватил ее за плечо, и она гневно отвернулась, но не прежде, чем я увидел багровый рубец поперек ее предплечья.
— Что это? Как это случилось?
Она мотнула головой и не хотела отвечать.
— Скажи мне, — настаивал я.
— Мой муж, — сказала она негромко. — Он подумал, что я дурно себя вела.
— Он подозревает, что…
— О нет! Он слишком глуп. Я ничего не сделала, но это не имеет значения. Он хочет причинить боль. Только и всего.
— Только и всего? — взбешенно повторил я. — Только? Что он с тобой сделал, скажи мне!
Вновь покачивание головы.
— Я не могу сказать тебе.
— Почему?
Наступила долгая пауза.
— Потому что я боюсь, что ты захочешь поступить так же.
И вот так это продолжалось. Мы находили время встречаться все чаще и чаще, иногда каждый день; она достигла большого искусства в умении ускользать незаметно. Мы почти не разговаривали: она сразу становилась печальной, да и в любом случае сказать нам было очень мало. Тогда я не думал, что это имеет какое-то значение.
Я забыл про салон маркизы и застонал от досады, когда вспомнил. Тем не менее свой долг я исполнил и явился туда вечером в следующую пятницу в семь. Я вымылся, насколько это возможно в доме без текущей воды и без приспособлений нагреть ту, что имелась, побрился, переоделся и в целом одобрил свою внешность.
Я рисовал себе вечер на манер лондонского или парижского, но, увы, он оказался совсем не похожим, поразительно скучным в первую половину и крайне тяжелым — во вторую. Суаре в Венеции — утомительное, сводящее скулы времяпрепровождение, примерно столь же приятное, как шотландские похороны, и с заметно меньшим количеством напитков. Дух карнавала настолько покинул город, что больших усилий стоит вспомнить, что когда-то он славился распущенностью нравов и беззаботной преданностью наслаждениям. Наслаждения эти нынче сильно разбавлены водицей, а радости строго рационированы, будто запас их очень невелик.
В дни моего пребывания в городе я редко посещал подобные вечера и уходил с ощущением, будто просидел там несколько часов, хотя мои часы всякий раз показывали, что миновало менее тридцати минут.
Вы входили, снабжались сухой галетой и очень малым количеством вина. Затем сидели в почтительном кольце вокруг гостеприимной хозяйки, пока правила приличия не подсказывали, что пора уходить. Должен признаться, я практически не понимал разговора — пусть и на возвышенные темы, но на диалекте, — однако серьезность лиц, отсутствие намека на смех, тяжеловесность тона — все указывало, что я ничего не теряю.
И было холодно. Всегда. Даже если в дальнем углу мужественно приплясывал огонь, его слабое тепло только дразнило, но не грело. Женщинам разрешалось прижимать к телу глиняные горшочки с горячей золой, чтобы хоть как-то согреваться, но мужчинам ничего подобного не дозволялось. Им приходилось мерзнуть и пытаться игнорировать ледяное онемение, медленно всползающее вверх по пальцам и рукам. Упадок изгнал веселость, спутницу величия. Чем больше Венеция слабела, тем больше ее жители утрачивали юмор. Быть может, они пребывали в трауре.
Маркиза была венецианкой всего лишь через брак, но приняла скуку с энтузиазмом новообращенной. Для таких вечеров она надевала все черное с акрами кружев и головной убор, почти полностью закрывавший ее лицо, затем садилась на кушетку и чинно приветствовала входящих, коротко переговариваясь с ними и, насколько я мог судить, подчеркнуто ждала, пока они не вставали, откланивались и уходили.
Ну во всяком случае, я приобщился к венецианскому свету, хотя позже я узнал, что наиболее уважаемые его члены уже давно отказывались переступить ее порог и она столь же давно перестала приглашать их. По причине некоторого скандала. Как я упомянул, она не была венецианкой и, хуже того, была почти нищей, когда выходила за своего мужа.
Против воли его семьи, что и стало источником скандала. Особенно когда почтенный джентльмен, старше ее на много лет, вскоре скончался, так и не обзаведясь наследником. Это было такой безответственностью, что виновной каким-то образом сочли маркизу: ведь кто-то же должен быть виноват в подобном промахе, раз род этот вопреки безденежью последних лет успешно выдерживал болезни, войны, прочие невзгоды, сохраняя нерушимую преемственность семь столетий.
Теперь все было кончено; великое имя на грани исчезновения — уже исчезло, по мнению многих. Со временем все семьи подстерегает злая судьба. Сама Англия постоянно наблюдает, как гаснут великие имена; меня это нисколько не трогает и не огорчит, если они исчезнут все. Хотя я признаю пользу аристократии как держательницы земли. Нестабильность тут означает нестабильность страны. Но по большей части трех поколений вполне достаточно, чтобы обеспечить крах любой потомственности. Одно поколение, чтобы создать богатство, второе, чтобы им насладиться, и третье, чтобы его промотать. Что до меня, разумеется — если только мои нынешние розыски не дадут результата, которого я не ожидаю, — мне даже это не предназначено. У меня нет наследника. Нам это не было дано. Все хотят оставить после себя что-то, и огромной, созданной мной организации недостаточно. Я бы хотел иметь ребенка, чтобы, как я своего отца, он бы похоронил меня и заботился бы об Элизабет, когда я умру. Это наш единственный шанс на какое ни есть бессмертие. Я ведь не обманываю себя, будто мои творения переживут меня надолго; жизнь компаний гораздо короче жизни фамилий.
Это, сказать правду, было величайшей печалью нашей совместной жизни; и ведь мы были так близки… Элизабет преобразилась от радости, когда сказала мне, что ждет ребенка, и впервые в жизни она вкусила истинное, ничем не омраченное счастье. Но оно было отнято самым ужасным образом… Ребенок был чудовищем. Я могу сказать это теперь, хотя много лет прогонял всякую мысль о нем. Он должен был умереть в любом случае. Она его не увидела, не узнала, что произошло на самом деле, но ее горе все равно было безграничным. Мы похоронили его, оплакали и его, и то, что могло бы быть. Это не было ее виной, разумеется, нет. Но она взяла вину на себя, думала, что причиной каким-то образом была ее жизнь, что унижения, которые она испытала, до такой степени въелись в ее существо, что даже плод ее тела был загублен. Некоторое время я думал, что ей уже не оправиться, боялся, что она может опять обратиться к тем страшным наркотикам, к которым с такой легкостью когда-то прибегала, чуть только напряжение и нервность грозили взять верх. Ее жизнь была тяжелой и опасной; шприц с раствором помогал ей забыться настолько, чтобы продержаться.
Она, конечно, выдержала; она же так мужественна. Но о детях больше речи не было. Врачи сказали, что новая беременность может ее убить. Думаю, она приняла бы такую смерть с радостью. Она бесценнее любых наследников, бесценнее всех детей на свете. Пусть все обратится в прах, развеется ветрами, но пусть она остается рядом со мной до конца. Если она покинет меня, я тоже умру.
— Надеюсь, мой маленький вечер доставил вам удовольствие, — сказала маркиза, когда все наконец кончилось.
— Он был чудесен, мадам, — ответил я. — Очень интересен.
Она засмеялась. Первый веселый звук, огласивший комнату за весь вечер.
— Ужасен, подразумеваете вы, — сказала она. — Вы, англичане, вежливы до смешного.
Я неуверенно улыбнулся.
— Тем не менее вели вы себя достойно и произвели хорошее впечатление. Благодарю вас за это. Вы укрепили репутацию вашей страны как оплота серьезности и достоинства, просидев так долго, ничего не говоря. Вы можете даже получить приглашение на вечер от одного-двух моих гостей.
Она заметила расстроенное выражение, мелькнувшее на моем лице.
— Не тревожьтесь. Они относятся к этому легко и будут вполне счастливы, если вы не придете.
Она поднялась с кушетки в пене кружев, я тоже встал.
— А теперь, — сказала она, — мы можем начать более интересную часть этого вечера.
Мое настроение сразу улучшилось.
— Прежде поужинаем, а потом…
— Потом что?
— Подождите и увидите. Но при этом будут люди, которых вы знаете, и одиноким вы себя не почувствуете. Например, вы знакомы с миссис Корт?
Надеюсь, я не выдал себя, но в некоторых отношениях она была чересчур проницательной. Я сказал, что знаком с миссис Корт.
— Бедная женщина!
— Почему вы так говорите?
— Нетрудно заметить, что она несчастна, — сказала маркиза негромко. — Мы в каком-то смысле подружились, и она много рассказывала мне о своей жизни. О жестоком обращении с ней ее нанимателей в Англии, о недостатках ее мужа… — Она прижала накрашенный ноготь к накрашенным губам, подчеркивая необходимость в сдержанности. — Ее влечет Та Сторона.