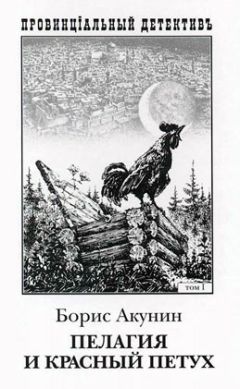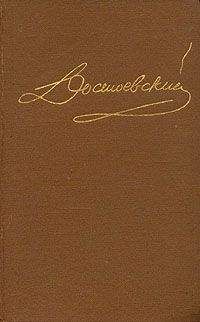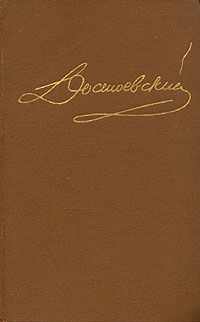Ознакомительная версия.
В конце концов, рассказывал Долинин, бродячий проповедник заинтересовал самого обер-прокурора Победина, по долгу службы зорко следящего за всякого рода ересями. Сановник призвал к себе лапотного мужика и затеял с ним духовную дискуссию. («Константин Петрович любит духовное единоборство с еретиками, только чтоб непременно побеждать, в соответствии с фамилией», — усмехнулся Сергей Сергеевич, рассказывавший этот случай в комическом ключе, но, впрочем, безо всякой язвительности.) А Мануйла, не будь дурак, выждал, пока прекраснодушный обер-прокурор обернется к образу Спасителя перекреститься, да и стибрил со стола золотые часы с алмазами, подаренные Победину самим государем. Был уличен в краже, отведен в участок. Однако Константин Петрович пожалел бродягу и отпустил на все четыре стороны. «Даже сфотографировать не успели или бертильонаж сделать, а насколько это облегчило бы сейчас мою задачу!» — с сожалением вздохнул рассказчик, а заключил словами:
— Лучше б не выпускал, всепрощенец несчастный. Сидел бы Мануйла в кутузке, да жив был.
— Грустная история, — сказала Пелагия, дослушав. — А грустнее всего то, что православие, казалось бы, природная наша религия, многим из русских людей не дает душевного утешения. Не хватает в ней чего-то для простого сердца. Или же, наоборот, есть что-то примесное, неправдивое — иначе не шарахались бы люди от нашей церкви во всякие нелепые ереси.
— Есть. Все в нашей вере есть, — отрезал Долинин, и с такой неколебимой уверенностью, которой Пелагия от этого скептика не ожидала.
Реплика монахини отчего-то разволновала следователя. Он некоторое время колебался, а потом, покраснев, сказал:
— Я вот вам расскажу… про одного человека историйку… — Сдернул пенсне, нервно потер переносицу. — Да что уж там «про одного» — про меня история. Вы умная, все равно догадаетесь. Вы, сестра, второе существо на свете, кому мне захотелось рассказать… Не знаю почему… Нет, вру. Знаю. Но не скажу, не важно. Захотелось, и все.
С Сергеем Сергеевичем что-то происходило, он волновался все сильней и сильней. Пелагии это состояние в людях было знакомо: носит в себе человек нечто, жгущее душу, терпит, сколько может, иной раз годами, а потом вдруг возьмет и первому встречному, какому-нибудь случайному попутчику самое больное и выложит. Именно что случайному, в этом вся соль.
— Обычная история, даже пошлая, — начал Долинин, кривовато усмехаясь. — Таких историй вокруг полным-полно. Не трагедия, а так, сюжетец для скабрезного анекдота про мужа-рогоносца и блудливую жену… Была у одного человека (который перед вами, но я уж лучше в третьем лице, так приличнее) молодая и прекрасная собой жена. Он ее, разумеется, обожал, был счастлив и полагал, что она тоже счастлива, что проживут они вместе до гроба и, как говорится, скончаются в один день. Ну, не буду рассусоливать — материя известная… И вдруг — гром среди ясного неба. Полез он за какой-то ерундой в ее ридикюль… Нет, я лучше уточню, потому что это еще подчеркнет пошлость и комизм… Ему, дураку, пудреница понадобилась, прыщ присыпать, поскольку предстояло важное выступление в суде, а тут, понимаете, прыщ на носу, неудобно. То есть это мне тогда казалось, что выступление на процессе — штука очень важная, — перешел-таки с третьего лица на первое Сергей Сергеевич. — До той минуты, пока я в ридикюле записочку не обнаружил. Самого что ни на есть пикантного свойства.
Пелагия ахнула.
— Я же говорю, история пошлейшая, — оскалился Долинин.
— Нет, это не пошлость! — воскликнула монашка. — Это худшее из несчастий! А что часто случается, так ведь и смерть не редкость, но никто ее, однако, пошлой не называет. Когда единственный на всем свете человек предает, это еще хуже, чем если б он умер… Нет. Это я греховное сказала. Не хуже, не хуже.
Пелагия побледнела и два раза резко качнула головой, словно отгоняя какое-то воспоминание или видение, но Сергей Сергеевич на нее не смотрел и, кажется, даже не слышал возражения.
Продолжил прерванный рассказ:
— Бросился я к ней требовать объяснений, а она вместо того, чтобы прощения просить или хоть соврать, говорит: «Люблю его, давно люблю, больше жизни. Не решалась тебе сказать, потому что уважаю и жалею, но раз уж так вышло…» Оказался наш давний знакомый, друг семьи и частый гость… Богат, хорош собою, да еще и «сиятельство». Долго ли, коротко ли, переехала она к нему. Я совсем голову потерял. Какая там служба, какие важные процессы, если мир рушится… Никогда бы не подумал, что могу униженно умолять, рыдать и прочее. Смог, преотличным образом смог! Только все впустую. Жена моя — существо доброе, сострадательное. Когда я рыдал, она вместе со мной слезы проливала. Я на колени, и она тоже сразу — бух! Так и ползаем друг перед дружкой. «Ты меня прости», «Нет, это ты меня прости», ет цетера, ет цетера. Однако при всей сострадательности дама она твердая, с важного не сдвинешь — это я и раньше в ней знал. И уважал. Конечно, и теперь не сдвинулась, только зря я терзал ее и себя. А однажды, воспользовавшись тем, что я разнюнился [здесь в голосе Сергея Сергеевича впервые прорвалось прямое ожесточение], она выпросила у меня отдать сына. Я отдал. Надеялся благородством и жертвенностью впечатлить. И впечатлил. Только вернуться ко мне она все равно не вернулась… И знаменитый проект, реформаторский-то, написал я именно тогда. С тайной, почти безумной целью. Нарушил все субординации, тон взял предерзкий. Думал: выгонят со службы — так уж все равно, пускай одно к одному. А ну как вознесусь, карьеру сделаю? Ведь мысли-то неглупые, государственные, давно выстраданные… Сначала и вправду от должности отстранили. Я не содрогнулся, даже удовлетворение испытал. Ну, так тому и быть, думаю. У меня, видите ли, как раз в ту пору один план созрел.
— Какой план? — спросила Пелагия, догадываясь по тону, что план был какой-то очень нехороший.
— Отличнейший, — усмехнулся Долинин. — Даже единственный в своем роде. Дело в том, что у счастливых любовников свадьба наметилась. Ну, не вполне, конечно, полноценная, потому что венчания быть не могло, однако же нечто вроде свадебного пира. В столице ведь нравы не то что в провинции, там теперь и свадьба с чужой женой не редкость. «Гражданский брак» называется. Подготовили они все на широкую ногу. По-современному, без ханжества. Уж пир так на весь мир. В том смысле, что настоящая любовь выше людских законов и злословия. А я сделал вид, что смирился с неизбежностью. Некоторые доброжелатели давно меня уговаривали «смотреть на вещи шире», вот я и посмотрел. — Сергей Сергеевич сухо, кашляюще рассмеялся. — Таким агнцем, таким толстовцем прикинулся, что — вы не поверите — был удостоен приглашения на сие празднество любви, в числе прочих избранных. Тут-то план и возник… Сначала хотел по примеру жителей страны Восходящего Солнца прилюдно брюхо себе ножом взрезать и внутренности прямо на свадебный стол вывалить — угощайтесь, мол. Но придумал еще лучше.
Пелагия вытаращила глаза и прикрыла ладонью рот.
Рассказчик неумолимо продолжал свою мучительную повесть:
— Приду, думал, с букетом и бутылкой ее любимейшего белого вина, которое раньше позволял себе покупать лишь два раза в год — на день ее ангела и в годовщину свадьбы. В разгар пира попрошу слова — мол, желаю тост произнести. Все, конечно, уши навострят, на меня уставятся. Такая пикантность: брошеный муж поздравляет молодых. Одни умилятся, другие внутренне осклабятся. И я произнесу речь, очень короткую. Скажу: «Любовь — всесокрушающая сила. Пусть вечно сияет вам ее улыбка, как сейчас просияет моя». Открою бутылку, наполню до краев кубок, подниму его выше головы и подержу так некоторое время — это специально для сына, который, конечно, тоже будет на пиру. Чтоб как следует все запомнил. А после вылью содержимое кубка себе вот сюда. — Долинин ткнул пальцем себе в лоб. — Только в бутылке у меня будет не вино, а серная кислота.
Пелагия вскрикнула, но Сергей Сергеевич, кажется, опять не услышал.
— Я незадолго перед тем одно дело вел — преступление страсти. Там женщина одна, уличная, из ревности своему «коту» вот этак же плеснула в физиономию кислотой. В морге видел его труп: кожа вся сошла, губы изъедены вчистую, и этакая ухмылка голых зубов… Вот и я надумал молодым такую же «улыбку всесокрушающей любви» явить. Боли не боялся — даже алкал, как наслаждения. Только такая боль и могла бы сравниться с огнем, что сжигал меня изнутри все те месяцы… Я бы, конечно, скончался на месте, потому что при ожоге большой обширности сердце не выдерживает болевого потрясения. А они пускай жили бы себе и наслаждались счастьем. Сны по ночам видели… И сын чтобы на всю жизнь запомнил… Такой, в общем, у меня образовался план.
— И что помешало его исполнению? — шепотом спросила монахиня.
На сей раз Долинин услышал — кивнул.
Ознакомительная версия.