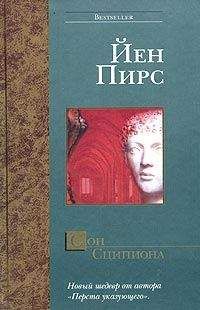Общепринятое толкование на самом деле абсолютно неверно. Если бы он не увидел данную женщину именно тогда, в этих конкретных обстоятельствах, он либо так и не узнал бы о ее существовании, либо остался бы равнодушен к ее обаянию. Теперь уже не модно и даже не совсем прилично говорить о вмешательстве судьбы или рока. Любовь — всего лишь стечение обстоятельств во вселенной, управляемой случайностью, которая смела прочь все остальные божества и обрела власть почти неограниченную. Но до чего же божество Случайность скучно в сравнении с теми, кого оно победило. Облаченное в хладнокровную рациональность — до чего же, в конце-то концов, рационально утверждать, что ни для чего нет никаких логичных причин, — оно привлекательно лишь для обнищалых духом.
Данный критический довод остается в силе, даже если бы Оливье не влюбился в эту женщину. Он ведь скорее влюбился в идею, обрызнутую солнечным светом в то теплое утро. София сказала бы, что его коснулось воспоминание о божественном, смутная память о происхождении души до того, как она упала на землю и вселилась в тело. Идея выглядела потрясающе, однако не была столь уж уникальной, как чудилось ему. К тому времени, когда Данте свел свою Беатриче к стихам, она вряд ли осталась реальной женщиной, а Лаура Петрарки, вполне возможно, существовала только в его воображении. Оба полюбили своих возлюбленных особенно сильно, когда те умерли и уже не угрожали их воображению появлением морщин или досадительной самостоятельностью мнения.
Результат достаточно хорошо известен — во всяком случае, ученым, знакомым с поэзией той эпохи и языком того времени: ведь Оливье писал на провансальском, который вновь вошел в моду с поколением отца Жюльена Барнёва, ну и его сын тоже выучил этот язык. Для таких людей уцелевшие стихи — около двадцати их — аккуратно разделились на две категории, получившие названия юношеских и зрелых. Согласно этому разделению, наиболее ранние стихи представляли собой essays5 — опыты подмастерья, в которых юный поэт еще не овладел искусством совершенствовать выражения, вытесывая их из грубого камня языка. От неточностей в этих стихах разит формализмом средневековья, в них ощущается загрубленный трубадурский стиль недавних времен. В ранней юности Оливье не обладал средствами выражения и достаточной уверенностью в себе, чтобы сбросить путы унаследованных приемов и заговорить прямо из глубины сердца.
А еще есть последние стихи, написанные, по-видимому, перед самым его крушением, когда он наконец полностью рвет с искусственностью и говорит со звенящей страстью, которая не звучала в поэзии более тысячи лет. Даже в переводе и через пятьсот с лишним лет трудно остаться равнодушным к тому, как он изливает свой всепоглощающий восторг от свершения любви и понимает, что это ни к чему привести не может. Естественно, такое впечатление слагалось не у всех; для других последние стихи были свидетельствами расстройства сознания, помутненного Черной Смертью либо какой-то внутренней психической болезнью.
И поскольку до выводов Жюльена никому ничего подобного и в голову не приходило, даже не рассматривалась возможность, что такая внезапная зрелость самовыражения, такой сдвиг в сторону нарастающей эмоциональной напряженности — сопровождаемый весомостью системы образов и уверенностью в подходе — были следствием того, что Оливье впервые по-настоящему полюбил реальную женщину, а не абстракцию, существовавшую только в его воображении. Также не было известно, что любовь эта была не к Изабелле де Фрежюс, по установившемуся мнению — вдохновительнице его поэзии; Жюльен установил, что данная ассоциация возникла только после его смерти. Изабелла действительно спускалась по ступеням той церкви в тот день, но Оливье ее даже не заметил. Он смотрел в другую сторону, устремив неподвижный взгляд на девушку в темном шерстяном плаще, аккуратно, но заметно заплатанном, торопливо шагающую в одиночестве по другой стороне улицы. До тех пор, пока Оливье не увидел ее снова и не узнал ее имени, он искал ее с исступлением, сквозящим в написанных тогда строках. Каждый день, выходя на улицу, он надеялся увидеть ее; много раз он следовал за фигурой, закутанной в темный плащ, только чтобы ужаснуться, наконец увидев лицо, скрытое под покрывалом.
Жюльен заметил Юлию в первый же день круиза, когда поднимался по сходням с чемоданчиком в руке, который побоялся доверить матросу. Она облокачивалась о поручень высоко вверху, глядя на портовую суету и разговаривая с мужчиной, которого Жюльен счел ее отцом, в чем не ошибся.
Она была настолько же красива, насколько ее отец был уродлив; в ней смуглость, пухлость губ и легкая удлиненность носа слагались в то, что художник вроде Модильяни превратил бы в классический образ эпохи, в намек на неуловимую необычность. Те же самые черты у ее отца могли быть подчеркнуты, искажены и окарикатурены в еще один классический образ той же эпохи, но без какого-либо тончайшего намека.
Вечером того же дня он познакомился с ней за коктейлями, которыми отпраздновалось начало круиза. Все они путешествовали первым классом, закупленным en bloc6 организаторами для интеллигентного сообщества профессоров, писателей и интеллектуалов, которые объединились в круговом неспешном объезде Средиземноморья с тем, чтобы некоторые читали лекции или возглавляли экскурсии, когда пароход причалит вблизи изучаемых ими достопримечательностей, а другие слушали бы. Большинство составляли французы, хотя за столиками сидели и представители других европейских стран, главным образом тех, которые еще совсем недавно сражались вместе. Юлия Бронсен и ее отец были неясной национальности. Привкус Франции в сложном рецепте, но эксперт различил бы в нем капельку итальянского, а также намек на русскую кровь. Жюльен так и не узнал, насколько это было важно для его любви к ней.
Собственно, познакомился с ним ее отец, Клод Бронсен, и Жюльен, как-то присоединившись к нему и его дочери за обедом, вновь поразился, что такой несуразный некрасивый мужчина оказался отцом столь красивой дочери. Он легко поддался тому, как Бронсен разговорил его, задавая ему вопросы о нем, поздравив его с успехом, о котором он, все еще по-юному тщеславный, успел упомянуть уже за супом, а затем принявшись рассказывать о Париже, и Риме, и Лондоне. Отец и дочь внесли в мир Жюльена нюанс утонченности, ведь, несмотря на войну, он почти не соприкасался с обществом. Он давно грезил о таком окружении, о том, чтобы стать желанным гостем на приемах и суаре, о том, чтобы видеть в своем кругу и писателей, и художников, и дипломатов, и просто влиятельных людей, или хотя бы быть принятым в их кругу. Бронсены были его первым соприкосновением с этими сферами, и он смаковал бы их, даже будь они менее приятными, интересными и приветливыми.
— Вы поедете в Рим, это так? — спросила Юлия.
— В сентябре, — ответил он. — В Эколь ди Ром на два года.
— Поздравляю вас с вашим успехом, — сказала она. — А я была там только раз. Когда мне было всего четырнадцать. Но как знать? Быть может, я сумею убедить папу опять свозить меня туда. И даже не исключено, что в один прекрасный день он отпустит меня одну, перестанет все время » надзирать за мной.
Из других уст такие слова могли бы прозвучать саркастически или даже жестоко; Жюльен на том этапе говорил бы о своем отце именно так. Но к упреку Юлии добавлялось любящее снисхождение к отцовской слабости, которая, однако, не маскировала до конца, насколько ее угнетала его нужда в ней. Ее ласковый бархатный голос был исполнен смирившейся, чуть насмешливой любви дочери к обожающему отцу, разлученному с женой, когда девочке было только шесть месяцев, и приложившему все усилия — согласно требованиям эпохи — вырастить ее в одиночку. Он не женился во второй раз, никогда даже не думал об этом, Юлия была для него и началом, и концом, и она принимала это в ущерб себе, с легким протестом.
— И что вы будете делать там, мсье? — осведомился отец. — Распуститесь и утонете в безделии? Или будете транжирить время на честный труд?
У него была манера, унаследованная его дочерью, переворачивать фразы вверх ногами и произносить их с юмором, который, если его хорошо проанализировать, говорил о многом. Был ли Жюльен всего лишь книгочей? Или он чутко отзывался на внешний мир, умел воспринимать время и место, ощущать историю в камнях и таким образом делать свой труд более тонким и емким? Вы всего лишь педант, мсье? Или в вас таится живая искра? Вы сделаете что-то со своей жизнью? Ответьте на мой вопрос со всем доступным вам остроумием, и мы увидим.
— Я не могу бездельничать, если не тружусь, — сказал Жюльен. — Постоянный надзор над нами гарантирует, что меня сразу отправят восвояси, если я не покажу требуемых результатов. Через девять месяцев нам разрешат жить в городе и работать более самостоятельно — или нет, это уж как у кого. Но я вряд ли буду сталкиваться с особыми соблазнами. Те, в Эколь, кто может стать моими друзьями, будут схожи со мной.