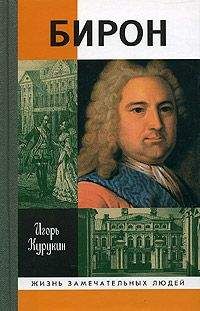Ознакомительная версия.
Николас уходил окрыленный и даже оглушенный. В коридоре долго благодарил, даже попробовал поцеловать старой даме руку.
Руку поцеловать она не дала, а, едва за дылдой закрылась дверь, зашлась придушенным, злобным хохотом. Если б Фандорин видел, как экспертша потирает руки, как давится кашлем от хищной радости, он окончательно уверился бы в ведьминской сущности Элеоноры Ивановны.
Отсмеявшись и откашляв, Фата-Моргана подошла к своему антикварному телефону, вынула из-под аппарата визитную карточку и набрала номер.{11}
– Это Моргунова, – сказала она в трубку не здороваясь (не имела такой привычки). – Еще один объявился. Комедия! Вот вы торгуетесь, а время уходит.
– Назовите более реалистичную цену, – произнес на том конце спокойный голос.
Элеонора Ивановна сердито топнула ногой.
– Уж мне-то про цену не рассказывайте! Я профессионал! Цена остается та же, плюс двести сверху, потому что теперь вам понадобится еще один.
– Вы от жадности утратили всякую адекватность, – ответила на это трубка. – Двадцать за всё про всё, и ни цента больше.
– Нашел дурочку! – Старуха засопела. – Смотрите, пожалеете. Вот он придет послезавтра, этот человек, и я ему все скажу. То есть, не всё, конечно. – Она хихикнула. – Кое-что. Ну как, не передумаете?
– Нет. И не звоните мне больше, старая ведьма.
Конец разговора, частые гудки.
* * *
В последующие двое суток – ночь, день, ночь да еще полдня – с Николасом Фандориным ничего особенного не произошло, так что можно на время его оставить. Зато с Рулетом приключилось нечто совершенно невероятное. То есть, наверное, все-таки не приключилось, а приглю́чилосъ. Хотя… Ну, в общем, дело было так.
Про Рулета и его прик(г)лючение
Во вторую ночь это случилось, после полуночи. Сидел Рулет на подоконнике, смотрел на звезды. Всего час как вмазался, так что было ему хорошо – и заблудившейся душе, и бедному отравленному телу.
Звезды были яркие, конкретные, плюс аппетитная луна, до которой хотелось дотянуться рукой, но Рулет понимал, что это подстава. Потянешься и навернешься с третьего этажа, реально.
Внизу прошелестели шины. Это во двор въехала «скорая помощь». Особенная такая, как ее… Реанимобиль, вот как. Фонарь на крыше медленно вращался, и это тоже было красиво. Рулет немножко посмотрел, как голубые лучи подсвечивают мрак, и снова задрал голову к небу.
Потом, через какое-то время слышит снизу: чмок-чмок.
Опустил голову, удивился.
По стене, вдоль водопроводной трубы, но при этом ее не касаясь, полз Спайдермен, Человек-Паук{12}. Неторопливо полз, основательно. Присосется верхней рукой-щупальцей – отрывает от стены ногу. Присосется ногой – переставляет руку. Чмок-чмок, чмок-чмок. Башка большая, абсолютно круглая, глазищи – словно капли.
– Кул, – сказал Рулет, не испугавшись, а скорее обрадовавшись – очень уж прикольный был глюк.
Вот вчера, когда на хороший «хлеб» бабла не хватило и пришлось зарядиться какой-то отстойной дрянью, был полный караул. Утром Рулет подполз к умывальнику, рожу сполоснуть, а умывальник вдруг возьми да оживи. Краник холодной воды оказался липкий, словно клеем намазанный – пальцы приросли намертво. Хромированная трубка вытянулась навроде змеи и обмоталась вокруг второй руки. Как стиснет запястье! Рулет заорал от страха и боли, задергался, но умывальник держал его крепко. Заглянул в зеркало, а там страшная рожа мертвяка: белая, костлявая, глаза будто две ямы, и под ними жуткие лиловые круги.
Тут он реально застремался. Зажмурился, головой затряс. Смотрит – мертвяк пропал, в зеркале его, Рулетово лицо, каким оно было давным-давно, на школьной фотке. Гладкое такое, ясное. Не успел обрадоваться, как на лице начали проваливаться дырки – одна, другая, пятая, десятая. Сделался Рулет, как кусок швейцарского сыра – кошмар. И послышался голос, то ли из зеркала, то ли из слива: «Не отпущу. Ты мой, мой до дыр…»
Вот это была конкретная страшила. А Спайдермен – подумаешь, даже интересно.
Как в старые времена, когда циклодолом баловался. От него бывали классные зоомультики. И про паука тоже. Как-то сидел Рулет в кресле, накушавшись цики, пялился в потолок, а там паучок в паутине, и с каждой секундой его видно всё отчетливей. Потом – бац: не паучок это, а фашистский летчик, и не паутина у него, а самолетный прицел. Как начал сажать по Рулету трассирующими очередями, прошил всего огненными пулями – кайф.
Короче, Человеку-Пауку Рулет был рад. Высунулся из окна, протянул руку, помог перелезть через подоконник.
Костюмчик у Спайдермена был суперский, совсем как в кино. Красный, весь прошитый черными нитями, а глаза выпуклые, блестящие, и где-то в их глубине искорки поблескивают.
– Здорово, я к тебе, – сказал гость.
Поручкались, причем лапа человека-насекомого прилипла к Рулетовой ладони, но это было не страшно и не противно, совсем не как с Мойдодыром. Даже смешно.
– Ой, прилип. Сорри, – извинился Спайдермен и, чем-то там чмокнув, отлепился. – Рулет, просьба к тебе есть, ерундовская. А я тебя за это научу по стенам лазить и в паутине висеть. Знаешь, как кайфово? Качаешься – чисто в гамаке. Сделаешь?
– Сделаю, – пообещал Рулет. – А чего надо-то?
Паук сказал. Оказалось, в самом деле ерунда. Рулету сейчас ничего было не жалко, особенно для такого гостя.
Тот вежливо поблагодарил и говорит:
– Оставил бы я тебя кайф досасывать, но ведь отмокнешь скоро. Начнешь закидываться, орать, что обокрали. Начнешь ведь?
– Начну, – признал Рулет, не желая ни в чем перечить новому другу. – Можно я тебя по башке поглажу?
Очень уж у Спайдермена круглая башка была.
– После. А сейчас со мной пойдешь. Лады?
Ну, Рулет и пошел. Фигли было не пойти?
Человек-Паук
* * *
В назначенный день, ровно в три часа, Фандорин явился на Тверскую. Волновался, конечно. Что из всего этого выйдет – культурное событие мирового значения или пшик?
Но с первой же минуты, едва увидел Элеонору Ивановну, понял: не пшик.
Фату-Моргану сегодня будто подменили. Она сразу открыла дверь, сказала «а-а, ну-ну» и даже улыбнулась – правда, какой-то двусмысленной и даже несколько зловещей улыбкой. Может, по-иному просто не умела?
На нетерпеливые расспросы сказала:
– Сейчас, сейчас. Сначала деньги. С вас 5803 рубля 14 копеек… Нет, сдачи нет, я же не кассир.
Пересчитала пятисотенные купюры, проверила на детекторе ультрафиолетом. Кивнула.
Дальше и вовсе произошло чудо. Предложила чаю и налила в стаканы какой-то бледной жидкости, пить которую Ника не решился. Не притронулся он и к курабье, тем более что в вазочке лежало всего три печеньица.
– Так что? – взмолился он. – Достоевский это или нет?
Элеонора Ивановна опять улыбнулась. Определенно, ее непривлекательное лицо от улыбки делалось еще менее приятным. Такое нечасто увидишь.
– Не будем забегать вперед. По порядку.
Она взяла распечатку, поправила свои темные очки и начала тоном музейной экскурсоводши:
– Бумага изготовлена на франкфуртской бумагопрядильной фабрике «Обермюллер». Это довольно популярная марка, широко использовавшаяся в Европе начиная с сороковых и до начала семидесятых годов 19 века. Не из дешевых – известно, что Федор Михайлович любил хорошую бумагу. Перо стальное, манчестерского производства. Именно такими перьями Федор Михайлович пользовался в шестидесятые годы. Химико-структурный анализ чернил подтверждает их аутентичность. Марка не определяется, но степень выцветания, при условии хранения в темном месте, соответствует нужным временным параметрам. Наконец почерк и, что тоже очень существенно, маргиналии – в нашем случае это рисунки на полях… – Торжественная пауза, повышение голоса. – Вне всякого сомнения это рука Федора Михайловича.
– Ура! – Николас ликующе махнул кулаком в воздухе. – Я чувствовал!
Эксперт подняла ладонь: тише, я еще не закончила.
– Ему же принадлежит и след запачканного чернилами пальца. Это большой палец правой руки. Оптоэлектронный преобразователь с достаточной степенью точности определил папиллярный узор, который полностью совпадает с другим отпечатком, в свое время обнаруженным мною на 18 странице рукописи «Неточки Незвановой». Дерматоглифическое исследование обнаруживает выраженную расплывчатость папилляров, характерную для эпилептиков, а как мы с вами знаем, Федор Михайлович был подвержен этой болезни. Кроме того, берусь утверждать, что дактилограмма принадлежит мужчине среднего возраста, вероятнее всего, в диапазоне от сорока до пятидесяти лет. Что соответствует времени работы над «Преступлением и наказанием», когда Федору Михайловичу было сорок четыре года.
Ознакомительная версия.