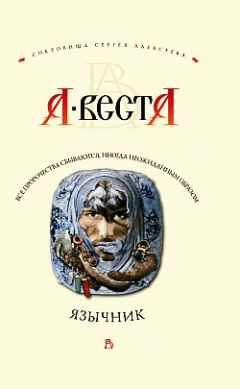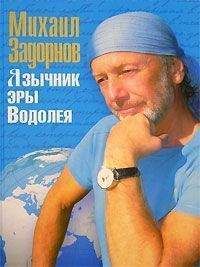Милиционеры живо разыскали в сарае бензиновую канистру с моими отпечатками. Ее оставил Ляга во время одного из своих наездов, и я много раз переставлял ее с места на место.
Наташа погибла тридцатого мая, в день святой Жанны. Наша жизнь полнится предчувствиями, но мы почти никогда не успеваем их прочитать. Ее вещая душа уже тогда знала все. Потому она жалела и несчастного Синюю Бороду, невесть как затесавшегося в ее сердце.
Жиль де Рец, рыцарь-хранитель Жанны Д’Арк, сначала отпирался, а потом все же сознался под зверскими пытками в совершении ста сорока детоубийств, а также в колдовстве и содомии, в совершении черной мессы и чернокнижии. По обычаю, он был сначала удавлен, а затем сожжен. Могу представить его прижизненные и смертные мучения.
Во время следствия я был как человек с содранной кожей. Весь мир для меня обратился в боль, и даже летящие мимо секунды, как песчинки, оставляли на мне кровоточащий, царапающий след. Боль от пыток и побоев не шла ни в какое сравнение с этой парализующей душу болью.
На следствии оказалось, что мне «пришили» еще одну жертву, семиклассницу из Соколовской средней школы. Забитый до животного состояния, я был признан виновным в двух убийствах и изнасилованиях. Я был изобличен по всем пунктам и тупо соглашался с обвинениями, лишь бы это поскорее кончилось. Я «добровольно» согласился сотрудничать со следствием и даже показал омут на Варяжке, куда бросил какие-то недостающие милиционерам улики…
Свою «первую жертву», девчушку из Соколова, я действительно видел один раз, в начале апреля она приходила за простым лекарством, вроде аспирина, и с любопытством осматривала больничку. Я подарил ей старый стетоскоп, бинты, несколько амбулаторных бланков с моей подписью и пару пипеток, полагая, что она все еще играет в куклы. Что-то из этих предметов нашли рядом с ее телом, и я, оказывается, уже месяц был на подозрении.
С оперуполномоченным Глиновым я познакомился тогда же. Он выезжал на место убийства школьницы. Почему-то в его бригаде не оказалось врача. Он заехал за мной на милицейском уазике и привез к речной балке за Соколово для освидетельствования тела. Я помню, как дрожали мои руки; мне навязчиво хотелось одернуть ее подол, спрятать, укрыть от взглядов, от яркого апрельского солнца этого ребенка, растерзанного зверем. Труп девочки был наскоро закидан молодой травой и одуванчиками. За ремешком ее сандалии тоже желтел весенний цветок. Глинов заметил мое состояние.
– Робеешь? Я и сам долго привыкал. Жалко девку, соплячка совсем…
Когда я «взбрыкнул» на суде и отказался от своих первоначальных показаний, вся машина завертелась снова, только еще быстрее и жесточе. Я упрямо «держал стойку», и мое дело вновь передали следователю Зуевой. В сравнении с ее приемами и ухватками методы ведения следствия Никанора Глинова выглядели кодексом рыцарской чести.
Незнакомец внимательно слушал, цокая языком в особо драматичных местах.
– Да, студент, ты бесплатно пропал… Ну, а теперь меня послушай…
И он вкратце преподал мне основы тюремного этикета и почти скаутский набор добродетелей:
– Слушайся старших, будь аккуратен. Не свисти в камере, не крысь, не жмись, не жухай, не закладывай. Не ходи на дальняк, когда другие едят, и сам не ешь, когда кто-то корчится у параши. Никогда никого не жалей. «Две собаки грызутся, третья – не лезь…» Бойся зашквариться об «козла опущенного». Опасайся плохих слов. Запомни: «просто» – очко, «чувствовать» и «обижаться» – стремные слова, годятся только для опущенных. Вместо «не обижайся», говори «не прими в ущерб», и так далее, будь осторожен, как попадья на именинах. «Будь безупречен», живи и говори по понятиям, и будешь «жить положняком». А спросят, кто научил, скажи, «на вокзале» с Воркутой перемолвился, братва оценит.
* * *
Первым инстинктивным интеллигентским желанием было поднять чистое полотенце с пола камеры. Но по ударившей в меня волне недоброго напряжения я догадался, что это ожидаемая кульминация какого-то действа, и в растерянности наступил на полотенце, а потом отбросил его ногой подальше. Поздоровался, как научил меня Воркута, и шагнул в густую, теплую вонь камеры.
Сквозь густой табачный дым камера просматривалась с трудом, дальний конец ее тонул в сизом угаре. Мне показалось, что все полки, по тюремному, «шконки», заняты. Человек сто, протухших, небритых, валялось на многоэтажных нарах, устроенных в несколько рядов от пола до потолка. В углу, прямо на полу, под шконками корчились отщепенцы.
– Гляди, Бабай, во курва штопаная! Здоровается по понятиям, буром прет, как крутой, а ноги-то шерстяные…
С верхней полки спрыгнуло маленькое костлявое существо в линялой тельняшке и с размаху ткнуло меня в солнечное сплетение. Мои очки с треснувшим стеклом отлетели в угол, но я устоял на ногах.
Следователь Зуева выполнила свою угрозу, и мой расстрельный букет был известен сокамерникам. Оставалось только драться, лупить «тельняшку» с остервенением смертника.
Кулаком с разворота я двинул тельняшку в скулу. В камере поднялся гвалт и свист, все были рады неожиданному развлечению, науськивали и натравливали опешившего «тельняшку».
– Бацилла, бей очкарика, бери на калган, руби ему витрину…
– Порву-у-у… – сквозь хрип выл Бацилла. От резких бросков у него горлом шла кровь.
В голове звенело, но я держал на своем лице твердый, радостный оскал, когда молотил, рвал зубами, впивался пальцами в худую цыплячью шею, пока удар по позвоночнику не выбил сознание.
Очнулся я в углу. Дубасили меня долго, и скорей всего, ногами. Внутренности были отбиты, лицо вспухло. Я пошевелил онемевшими конечностями и с трудом сел, привалившись спиной к стене.
Мимо, как во сне, проплывали размытые тени, некоторые подходили ко мне, чтобы пнуть кроссовками под ребра или между ног.
– Еще раз ударишь, тварь чернозадая, рожу размозжу, животное.
– Кынжал захотэл, – с кавказским акцентом огрызнулась тень и куда-то сгинула.
Я с трудом разлепил глаза: невысокий паренек, походя, отпихнул плечом «чеха», дольше всех изгалявшегося надо мной. Я этого джигита уже запомнил: пнет, плюнет и весело, по-лошадиному, заржет.
Поздним вечером я с трудом перебрался на свободную шконку в конце камеры и едва донес голову до гнилой подушки.
Несколько дней я приходил в себя. «Блатные», казалось, про меня забыли. Бацилла отлеживался на нарах для почетных гостей. Проходя мимо меня, тот самый паренек несколько раз ставил мне на грудь шленку с супом, клал ложку и хлеб. Все это он старался делать незаметно. В этой части камеры обитали в основном «фраера», палаточники и «мужики», ближе к туалету, то есть рангом ниже, располагались бомжи и чушки.
Недели через две я «отошел», следы от побоев зажили довольно быстро. Несколько ночей я спал вполглаза, ожидая нападения. Бацилла окончательно оклемался и целыми днями резался в «стосы», самодельные карты, партнерами его были верзила по кличке Рогомет и бледный ушастый заключенный с неблагозвучным «погонялом». Такие странные клички клеят на малолетке, где еще нет взрослых «табу». Я не догадывался, что они играют на меня.
– Ночью не спи, – шепнул мне белобрысый паренек, проходя мимо меня к дальняку. – Если что, ори, бейся, зови охрану…
Я долго лежал на спине, слушая сонное сипение, храп, вскрики сокамерников, потом перевернулся на живот и заснул. Сквозь кошмар удушья я все не мог проснуться. Ко мне, как и предупреждал паренек, среди ночи подкрались несколько человек. Один уселся на плечи и накрыл подушкой голову, другие держали за ноги.
– Не воркуй, не воркуй, голубок, сейчас распечатаем и отпустим, – ласково приговаривал Рогомет, – Бацилла от тебя в ущербе, ему и первинки сымать…
Я мычал и бился, не в силах сбросить даже тщедушного Бациллу.
– Назад, сволочь! Всех порежу!… – заорал высокий мальчишеский голос, кто-то спрыгнул с верхней полки на моих мучителей.
– Отвали, ососок, – захрипел сбитый на пол Рогомет.
Под бешеные крики я кое-как освободился, и возня переместилась на пол. Заключенные проснулись, посыпались с нар в «ущелье» – узкий проход между нарами. Во всеобщей неразберихе кто-то вызвал охрану. На стене замигал красный «клоп», в камеру с грохотом ворвались дежурные. «Бацилла», ковыляя, успел взобраться на свою шконку, а мне и белобрысому, как не успевшим «зашкериться», досталось несколько ударов дубиной и пинков в живот. Во всеобщей потасовке ворвался весь суточный наряд охранников и принялся лупить дубинками всех без разбора. После построения всех зачинщиков «махаловки», то есть меня и белобрысого, вытащили из камеры в наручниках и отвели в кандей.
Я впервые был в тюремном карцере, узком «стакане» метр на метр. Стены здесь были покрыты бетонной «крокодильей шубой». Шипы царапали даже сквозь одежду. Вдобавок здесь было так холодно, что, разгоряченные дракой, мы сначала дымились, а потом одежда начала леденеть. На полу хлюпала жижа. Под потолком шипела и моргала тусклая лампа.