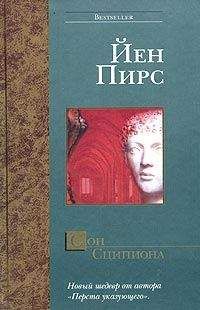Но он все еще располагал огромными возможностями.
— Ее надо устроить в безопасном месте, чтобы ей больше не о чем было беспокоиться, — сказал он. — Я у тебя в долгу, почтенный, за то, что ты был так добр и доставил мне это известие. Когда ты вернешься туда?
— Примерно через две недели, если с моим делом не будет помех.
— В таком случае, уповаю, ты окажешь мне большую любезность и, быть может, исполнишь несколько моих поручений ради нее.
Еврей охотно согласился и ушел. Вернулся он, как и сказал, ровно через тринадцать дней, и Манлий вручил ему письмо и кожаную сумку.
— Письмо для госпожи, а сумка на ее налоги. Мне бы хотелось, чтобы ты позаботился обо всем об этом для меня, и, конечно, ты будешь вознагражден за свою доброту.
— Благодарю тебя, господин мой.
— Письмо все ей объяснит, но на случай, если она откажется принять то, в чем так очевидно нуждается, я объясню суть и тебе. Будь добр, выполни указания, каким бы ни было ее мнение о них. Найди откупщика налогов и уплати все ее долги, какими они ни были бы. Продай ее собственность как можно выгоднее, тогда я приеду со всей быстротой и увезу ее на мою виллу. Я буду там через три недели.
Еврей кивнул и направился к двери.
— И последнее, — сказал Манлий. Еврей обернулся.
— Да?
— Как тебя зовут?
Тот улыбнулся.
— Странно, как редко меня спрашивают об этом, — сказал он. — Меня зовут Иосиф, господин мой.
— Благодарю тебя за твою доброту, Иосиф.
— Странно, — сказал он позднее Луконтию, рассказав про эту встречу, — что от него зависит весь мир.
— А я и не знал.
— О да! Мои глубокие розыски в христианстве совершенно ясно мне это показывают. Все полностью согласуется. Воскрешение тел, которое, как я понимаю, составляет ступень во втором пришествии, не может произойти, пока все евреи не придут к Христу. Так, мне кажется, говорит святой Павел. Судя по моему другу Иосифу, наступление этого желанного дня откладывается весьма надолго. Он явно не имеет такого намерения.
— А ты не указал ему, что он немного эгоистичен, заставляя всех ждать?
— О нет. Он прекрасный малый — честный, добрый и трудолюбивый, хотя чувство юмора различить в нем трудновато. Возможно, он не находит тут ничего смешного. И, сказать правду, христиане так истово верят в эту нелепость, что бывали случаи, когда их стремление убеждать не ограничивалось только доводами. Мой милый друг, это наводит на меня тоску.
— Что наводит?
— Лицезреть торжество чего-то столь грубого и тупого. Подумай о Софии, о мудрости и изяществе того, чему мы у нее научились. Подумай о красоте ее философии и совершенстве созерцательного идеала. О сложной глубине ее понятий и проявлений Бога. А потом подумай о смрадной черни и ее верованиях. Несчастных евреев поносят только потому, что невежественный сброд видит в этом способ попасть на небо.
— Ты едва ли сумеешь растолковать ее постулат о душе своим христианам, — ответил Луконтий. — И тем более приобщить к формальной природе ее логики.
— Знаю, они требуют результатов. Они ждут кого-то, кто придет и скажет: «Повторяйте за мной и живите вечно. Чем меньше вы знаете, тем лучше».
Он улыбнулся.
— Не то чтобы я собирался пригласить Иосифа на обед. В конце-то концов, он купец, да и в любом случае приглашения не примет. Но я немного побеседовал с ним, и он кажется достаточно приемлемым, хотя странным, как большинство его сородичей. Во всяком случае, он не утверждает, что его спасение зависит от поведения кого-то другого. Он просто верит с безупречной вежливостью, что все другие глубоко ошибаются относительно всего.
Он встал и взял чашу у слуги.
— И пусть он как можно дольше остается таким, говорю я, потому что оно стоит того, чтобы увидеть праведное возмущение на лицах христиан при одной только мысли о подобных людях.
И иронично улыбаясь, они выпили за здоровье Иосифа, еврея.
Манлий тщательно все обдумал до приезда Софии и приготовил для нее один из своих домов в Везоне, поблизости от форума и в той части города, которая оставалась плотно населенной и полной деловой суеты. Дом был компромиссом: таким простым, как хотела она, и таким внушительным, как требовалось ему — ведь она будет находиться под его протекцией и не должна ставить его в неловкое положение своей экономностью. Однако она настояла, чтобы рабов убрали.
— У меня есть мой раб, и для меня этого достаточно, — сказала она. — Что я буду делать с десятком?
Он попытался ответить.
— Я знаю, ты встревожен. «Вон идет протеже великого Манлия, и он дал ей только одного раба!» Тебя заботит твоя репутация. Забери их, мой мальчик. Наверное, для них найдется более полезная работа.
И он послушался. Кроме того, он приказал забрать почти всю мебель, запер почти все комнаты, закрасил фрески (и тем сохранил их для реге Сотеля, когда тот начал свои раскопки) и предоставил ей жить по-своему.
Затем она снова пришла к нему.
— Городская жизнь меня утомляет, — сказала она. — Он давит на меня, этот провинциальный городишко.
— Ты говорила мне, что философия может существовать только в обществе людей.
— В больших городах, а не в городишках. И уж конечно, не в городишках настолько съежившихся, что они уже почти неотличимы от деревни. Ты знаешь, они называют меня язычницей, эти достойные горожане? Они за один день установили, что я не посещаю церкви, и явились спросить меня почему. Я думала, что смогу учить здесь, но проще обучать козье стадо.
Он понимал, что она видит — она, чей отец приехал из Александрии, одного из величайших городов земли, она, которая выросла в Марселе, все еще большом городе, хотя и уменьшившемся. Везон теперь был жалким селением, пусть когда-то богатым и преуспевающим. Несколько кварталов были разграблены в прошлом веке, да так и не отстроены заново. И они продолжали служить карьером для урывками продолжающегося возведения городской стены. Но и этот проект не завершился; город не был способен действовать энергично, даже когда речь шла о его собственной защите; строители отказывались работать без платы, а денег не было. Сами горожане не желали заняться этой работой, считая ее неподобающей. А рабов и слуг для такого подневольного труда осталось слишком мало. Общественные здания были небольшими и ветшали; величественные особняки были разделены на отдельные жилища или заброшены или разобраны. А в нем самом противоборствовали его обязательства как члена племени вокконтиев, которое обитало в этом краю, еще когда сам Рим был лишь скоплением лачуг на итальянском холме, и как римского аристократа, свидетеля лучшего прошлого и более великих дел.
— А мне говорили, что ты снискала уважение, — заметил он.
— Как подательница здравых советов. Люди приходят ко мне со своими тревогами и болью. Я проливаю бальзам и на то, и на другое. Пойми меня правильно, я счастлива помочь им. Но по-настоящему их заботит только состояние дорог, величина налогов и долго ли еще вода в резервуарах сохранится чистой.
— Самые насущные и неотложные нужды.
— Знаю. Но порой их чириканье и пересуды доводят меня почти до безумия.
— Так чего же ты хочешь?
— Какого-нибудь тихого места. Мирного. Где я могла бы размышлять, не боясь, что меня отвлекут невежды или диакон, призывающий возлюбить Христа. Знаешь ли ты, что единственные, с кем я могу вести разговоры, это евреи. По крайней мере когда они цитируют писание, то не просто повторяют то, что набормотал им в уши какой-нибудь поп. Их великое достоинство — не соглашаться почти ни с чем, что я говорю. Собственно, они не соглашаются почти ни с чем, что говорят сами. А главное, они не думают, что крики усиливают их доводы. И громко разговаривают только по привычке. Я развлекаюсь тем, что читаю Библию с одним из их священников, или как они там называются. Очень поучительно.
— Ты меня изумляешь.
— Я сама себе изумляюсь. Но как ни увлекателен Моисей, я все-таки хочу немного мира и покоя. Нет ли у тебя местечка где-нибудь в сельской местности, куда я могла бы уехать?
Манлий засмеялся.
— Госпожа моя, ты прекрасно знаешь, что почти вся сельская местность принадлежит мне. Если верить сборщикам налогов, я владею сорока девятью виллами, и многие из них теперь пустуют и разрушаются, потому что на поддержание их не хватает рабочих рук. Не то чтобы они считались с этим.
Она вздохнула.
— Не начинай. Я бы хотела воспользоваться каким-нибудь маленьким жильем в двух днях пути отсюда. В настолько уединенном месте, насколько возможно.
Манлий поразмыслил.
— Я знаю как раз такое место.
Две недели спустя починки завершились, десяток сервов был переселен туда для необходимейших услуг, и госпожа София была препровождена на виллу километрах в четырех от его главной резиденции. Вилла располагалась среди группы холмов, обеспечивавших прохладу летом и защиту от ветров зимой. Для нее вилла была слишком великолепной — больше двадцати пяти комнат! — и она возненавидела ее с первого взгляда. Но, покидая ее, она увидела небольшое жилище на склоне холма — с широким видом на окрестности, с защитной рощицей — и сразу же сочла его совершенством. Чистый родник неподалеку, тропа, чтобы из долины можно было доставлять хлеб и другие припасы. Свежий воздух и простота, которых она искала. Как только семью земледельцев по распоряжению Манлия выселили — София никогда не считала, что философия должна склоняться перед правом справедливости, — она переехала туда и обрела тишину и покой, которых так долго искала. Когда она наконец решила, что останется там, Манлий немедля подарил ей этот домик вместе с соседними хозяйствами и примерно сорока работниками. Через два-три года все работники, кроме шестерых, разбежались, и поля заросли кустами. А чего он ожидал? Что она займется земледелием? Будет беспокоиться из-за пшеницы? Проверять, здоровы ли оливковые деревья? Такое бессмысленное расточительство досаждало Манлию, который усердно трудился, чтобы его собственная земля плодоносила, но он ничего не говорил. Тем не менее временами она была трудной, невозможной.