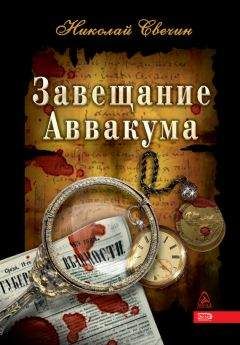— Для опознания? — догадался рогожец, быстро обыскал Кузнецова, нашел какой-то бельгийский самовзвод, сунул себе в карман и двинулся следом.
Так они и шли по пустынным ночным Самокатам: Алексей с трупом Оси, как с мешком, на плече и рядом Буффало. Редкие гуляки, попадавшиеся им навстречу, разглядев получше эту парочку, мгновенно разбегались. Только на мосту через Обводный канал их попытался остановить ночной караул уголовных. Алексей, не останавливаясь, махнул левой рукой, и здоровенный кудлатый парень через перила кубарем полетел в воду. Буффало щелкнул курком револьвера, и оставшиеся двое караульных с криками исчезли в темноте.
Еще двадцать шагов, и они оказались на территории гостиного двора, где уже хозяйничала полиция.
Благово с приставом Львовым стояли на крыльце Макарьевской части и о чем-то взволнованно разговаривали; вокруг них, словно пчелы, сновали городовые, которым раздали винтовки. К подъезду съезжались полицейские «линейки»; суровый Каргер в черезплечной портупее, с револьвером в огромной кобуре и саблей на боку ходил по тротуару и кричал:
— Где эти чертовы казаки? Сейчас без них пойдем!
Появление Лыкова и Буффало враз остановило эту круговерть. Все замерли и уставились на них, как на пришельцев с того света. Алексей из последних сил по-молодецки взбежал на крыльцо и сбросил с плеча труп под ноги начальству.
Благово быстро присел, перевернул тело лицом вверх и несколько секунд внимательно его рассматривал. Потрогал пальцем шрам на скуле — не приклеен ли (такие случаи бывали). Потом встал и, ни к кому особенно не обращаясь, сказал, скрывая волнение:
— Это Осип Лякин.
Только тут все, как по команде, бросились к Алексею и Буффало, начали их обнимать, жать руки, хлопать по спине, кричать какие-то радостные слова. Благово первый обхватил Алексея как медведь, молча подержал так несколько секунд и быстро отошел, и Алексей с удивлением и каким-то умилением увидел, что тот незаметно вытирает слезы обеими руками.
Подбежал Каргер, тоже обнял Лыкова, потом перекрестил и трижды расцеловал.
— Молодец, Лыков! Представим, непременно представим! А мы тут чуть войной не пошли…
Из темноты раздался звон множества копыт, и к Макарьевской части подскакала полусотня казаков с разгоряченным офицером во главе.
— Ваше превосходительство!..
Каргер властным жестом остановил доклад и сказал громко, на всю Главную площадь:
— Отдыхайте, подъесаул. Пока вы собирались, мои люди уже все сделали.
Городовые, непривычно воинственные из-за винтовок, дружно загоготали; следом за ними звонко засмеялся Благово, по-кавалерийски раскатисто — Львов, и последними, глядя на всеобщее веселье, присоединились к нему Алексей и Буффало. Подъесаул молча сконфуженно козырнул и столь же быстро, как появился, исчез со своей командой в темноте.
Так они все, несколько десятков людей в полицейской форме и без оной, стояли и радостно, громко и беззаботно смеялись посреди ночи. А потом сверху, где находился пожарный пост, вдруг раздались резкие удары сигнального колокола, а затем крик:
— Пожар на Самокатах! Третий нумер!
Третий номер — значит, уже появилось открытое пламя. Пожар на ярмарке — страшное дело! В 1857 году сгорели более ста зданий, включая цирк и театр; ладно, это было осенью, а не во время торга. А в пятьдесят девятом! А в шестьдесят четвертом — и вспоминать страшно, две трети ярмарки выгорело…
Из флигеля выскочил бранд-майор Морошкин в медной каске и крагах; раскрылись ворота, и вылетели на крепких пожарных конях все три «машины», облепленные ствольщиками и топорниками, следом — телега с баграми.
Благово глянул на Буффало:
— Вы там ничего такого не делали?
— «Такого» — нет. Зашибли, правда, еще двоих, но уходили тихо и спичек не жгли.
— Павел Афанасьевич, а ведь, пожалуй, это и впрямь у Кузнецова! — вытянув шею, выкрикнул Лыков. — Значит, уголовные следы заметают. Вот сволочи, всех спалят!
И они, во главе с Каргером, помчались следом за пожарными.
Морошкин превзошел в эту ночь сам себя: пылающий уже как факел трактир сумели затушить водой из Мещерского озера, составив «кишки» в сорок саженей, отстояли и соседние строения. Две трети кузнецовского трактира все же выгорели. Полицейские до утра рылись в дымящихся развалинах, вытащив более двадцати обгоревших трупов, большей частью пьяных из номеров в обнимку с сильфидами, задохнувшихся от дыма и не сумевших вовремя проснуться. Нашли также тело перса-душителя с тремя пулями в груди, и в подвале — мужика в кожаном фартуке и самого хозяина заведения, знаменитого в уголовном мире Кузнецова. О происхождении этих трех тел Лыкову пришлось уже утром писать рапорт.
Большая Покровская улица.
В восьмом часу утра Благово возвращался к себе домой сменить рубашку, изрядно пострадавшую при обыске на свежем пепелище. Настроение у него было — лучше некуда, давно такого не случалось. Граф Игнатьев, видно, знал какое-то волшебное слово в Петербурге. Во всяком случае, ночью пришла шифрованная телеграмма от министра, утвердившего все ходатайства генерал-губернатора. Кроме новых чина и должности, Благово получил еще, неожиданно для себя, орден Святой Анны 2 степени «по совокупности заслуг». Он подозревал, что и этим обязан хитроумному графу, старавшемуся, по-видимому, возвысить полезного ему подчиненного.
Помимо прибавки жалования в две тысячи рублей, новоиспеченный начальник нижегородской сыскной полиции получал дополнительно казенные квартиру и дрова. Бездельник Лукашевич, шляясь по заграницам, квартиру оставил за собой, и Благово приходилось снимать жилье в доходном доме Пальцевых на Большой Покровке за немалые деньги. Теперь было особенно приятно ехать и обдумывать, какую следует прикупить мебель, где ее поставить, что из книг он теперь сможет приобрести. Мальков бы еще запустить во все пять прудов, в родовом имении Чиргуши…
Павел Афанасьевич Благово, столбовой дворянин, сын небедных родителей (до 1861 года — триста душ в Ардатовском уезде и четыреста в Лукояновском), закончил Морской корпус и весело служил на Балтике, на пароходофрегате «Мономах», не зная бед. Море он любил, товарищи его уважали, начальство в целом благоволило. Жизнь двадцатишестилетнего лейтенанта изменилась в одночасье.
У них на корабле служил мичман, одногодок Павла Афанасьевича, у которого как-то не задались отношения с товарищами. Мичман Редигер был из лифляндцев, русских недолюбливал, команду своего плутонга не мордовал, денег никому в долг не поверял. Но служил исправно, его батарея была лучшей на фрегате.
Офицеры часто между собой довольно зло посмеивались над Редигером; особенно усердствовал лейтенант Плавский, любимец капитана и старшего офицера. Уже дважды Редигер резко отвечал на его колкости, дважды кают-компания с трудом разводила едва не назначенную дуэль. Ситуация понемногу накалялась, но начальство ничего не предпринимало, будучи явно и всецело на стороне русского лейтенанта.
Однажды утром Плавский неожиданно попросил всех свободных от вахты офицеров срочно собраться в кают-компании, выгнал из нее вестовых, запер изнутри дверь и публично обвинил Редигера в воровстве! По его словам, мичман вчера вечером после карт украл у него из кармана кителя портмоне с вензелем «МП» («Михаил Плавский»), в котором лежали триста рублей только что выигранных денег. Плавский хватился их перед сном, стал искать, потом вспомнил, что китель его висел на стуле у ломберного столика и был момент, когда в каюте Редигер на несколько минут оставался один. Больше никто украсть деньги не мог.
Скандал получился очень неприятный. Редигер покрылся пятнами, чуть не кинулся с кулаками на Плавского, потом дал честное слово дворянина, что никаких денег не крал, начал оправдываться. Вид у него был жалкий. Офицеры были смущены — неслыханная вещь, пятно на весь корабль! Скажешь кому, что ты с «Мономаха», и услышишь в ответ — «А! С того, где офицеры друг у друга деньги воруют?». Разговоры и объяснения поэтому велись только шепотом, чтобы не слышали нижние чины.
В конце концов, старший офицер взял двух лейтенантов (в том числе и Благово), а также Плавского и Редигера, и они пошли толпой обыскивать каюту последнего. Портмоне с монограммой «МП» нашли очень быстро — под периной в ногах. На Редигера невозможно стало смотреть: он что-то лепетал, даже заплакал от унижения, обещал застрелиться, но упрямо утверждал, что денег этих не крал.
Что-то во всей этой истории не понравилось Благово. Он тоже недолюбливал Редигера, но считал его лично честным человеком. Не может такого быть! Но если лифляндец портмоне не брал, значит, ему его подбросили. Неужели? Неужели для того чтобы сплавить неприятного ему сослуживца, второй, русский офицер, пошел на такую чудовищную ложь, провокацию, такое попрание чести своего товарища — моряка? Этого тоже, казалось, не могло быть.