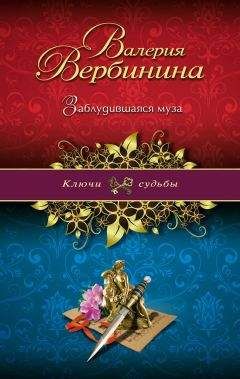Ознакомительная версия.
– Изыди, анафема!
– Спускайся, подлец! – кричал снизу кузнец, потрясая клочьями Прохоровой бороды, зажатыми в кулачище величиной с хорошую дыню.
– А вот и не спущусь! – отвечал сверху осмелевший Прохор. – Как же это можно – не уметь ноты различать? Ладно буквы, их тьма-тьмущая, но ноты!..
Слушая рассказ о злоключениях Прохора, которому кузнец с присовокуплением многочисленных бранных слов пообещал вправить мозги так, что он забудет не только ноты, но и свое собственное имя, Чигринский хохотал до того, что на глазах у него выступили слезы. А отсмеявшись, он без всяких околичностей предложил Прохору поступить к нему на службу.
– Ну, не знаю, не знаю, сударь, – забурчал тот, сдвинув свои лохматые брови. – Вы лицо светское, а я не привыкши…
– Да ладно тебе, – махнул рукой Чигринский. – Ты же сам говорил, что твой хор – сплошное мучение, у половины нет голоса, а только старание. На одном старании далеко не уедешь… Впрочем, поступай как знаешь, – уже сердито добавил композитор, который терпеть не мог уламывать кого бы то ни было. – Хочешь, чтобы кузнец тебе в сумерках голову проломил, – твое дело…
Поразмыслив, Прохор признал справедливость слов Дмитрия Ивановича и уже на следующий день перенес к композитору свои вещи. Половину их составляли ноты и разные сочинения о музыке, большинство которых напечатали еще тогда, когда ни Прохора, ни Чигринского на свете не было.
– Ба, а вот эта книжка на латыни! – изумился Чигринский. – В руках рассыпается, но читать можно… Ты что, и латынь знаешь?
– Не знаю, – вздохнул Прохор, – ну а вдруг выучу? Прочитаю тогда, что умные люди о музыке-то написали… Заглавие видели? «De musicae mundi»[1], во как!
– По-моему, это какой-то философский трактат, – хмыкнул Чигринский, не без труда продравшись через несколько фраз текста. – Ладно, как прочитаешь, расскажешь, о чем там говорится…
Он удалился, а через минуту Прохор сквозь неплотно притворенные двери расслышал, как его новый хозяин музицирует. Антипов застыл на месте, на его глазах выступили слезы, одна из которых потекла по длинному носу и докатилась до бородавки. Музыку Прохор обожал до чрезвычайности, а какой-нибудь особенно удачный пассаж мог и вовсе привести его в состояние, близкое к экстазу. Но, хотя мало кто так разбирался в музыке, как этот невзрачный рыжеватый человечек, таланта к сочинительству у Антипова не было. И, учуяв этот самый талант в Чигринском, бывший регент прилепился к нему всей своей восторженной душой.
Прохорово видение мира было предельно ясным: вселенная вертится вокруг Дмитрия Ивановича, а если в учебниках написано, что какие-то малозначительные планеты вращаются вокруг Солнца, то это недоразумение, которое простительно людям, в музыке не смыслящим. За короткое время новый слуга сделался положительно незаменим. Он разобрался с кредиторами, которые допекали Чигринского еще с гусарских времен, завел в доме ненавязчивый, но строгий порядок и, присмотревшись к друзьям и знакомым хозяина, рассортировал их по каким-то ему одному ведомым воображаемым полочкам. Он изловчился отваживать тех, которые только зря тратили время (и деньги) добродушного, расточительного композитора и, наоборот, привечал тех, которые оказывали на Чигринского хорошее влияние или были ему действительно необходимы. Кроме того, Прохор принимал многочисленных посетителей и частенько, едва перекинувшись с человеком парой слов, определял, кто действительно нуждается во внимании или в помощи, а кто явился лишь для того, чтобы вечером небрежно уронить в кругу приятелей: «Сегодня я навестил Дмитрия Ивановича… Какого Дмитрия Ивановича? Чигринского, разумеется… Да, который музыкант. Представьте, мы с ним давно знакомы…» и далее расписывать историю знакомства, которая сильно озадачила бы самого композитора, который сегодня видел гостя первый раз в жизни. А еще бывали дамы, причем самые разные, от модисток до посланниц великих княжон, – тех, которые любили музыку Чигринского и считали своим долгом сообщить ему это через посредниц, являвшихся в обманчиво скромных нарядах.
– Ну что они все от меня хотят? – стонал композитор. – «Ах, как я люблю ваши песни, сколько в них поэзии, сколько чувства, сколько изящества!» И что? Я должен запрыгать от радости? Сойти с ума от счастья? И ведь хвалят-то обычно самые дурацкие, самые никчемные вещи, просто буквально: сел к роялю и, смеясь, записал между двумя трубками! А потом барышни друг у друга ноты вырывают, чуть ли не дерутся из-за них в магазинах…
Прохор слушал и смиренно кивал, но в глубине души был уверен, что хвалят совершенно правильно и что именно то, что, как казалось Чигринскому, он выдумал на ходу, безо всяких усилий, у него получалось лучше всего. Как только он начинал размышлять об отделке, о какой-то своей музыкальной философии, его музыка становилась тяжеловесной, рассудочной, какой-то немецкой. Но Прохор скорее отрезал бы себе язык, чем признался в крамольных мыслях хозяину, которого боготворил…
Чигринский был мастером небольших вещей, таких мелодий, которые любой мало-мальски образованный человек может исполнить, таких песен, которые каждый может спеть. И мало этого: услышав написанное им один раз, мало кто отказался бы прослушать то же самое во второй, и даже несколько раз кряду. Его музыка как-то незаметно будила в каждом свои собственные мысли и чувства, она касалась таких струн души, которые подвластны далеко не каждому композитору, пусть даже очень хорошему. Злопыхатели (а их, само собой, имелось предостаточно) уверяли, что секрет Чигринского на самом деле в том, что он прост как дважды два, и его мелодии точно такие же. Но именно эта простота почему-то никому, кроме него, не давалась.
Он любил сочинять песни на стихи известного поэта Алексея Нередина[2], с которым начал приятельствовать еще тогда, когда оба служили в армии. Писал он также вальсы, ноктюрны и сюиты, а как-то раз сочинил бравурно-маршевую мелодию к довольно неприличным стихам сослуживца, которые высмеивали армейские порядки и разные мелкие шалости, известные узкому кругу лиц. Марш потом был опубликован, разумеется, без слов. Так он звучал чрезвычайно торжественно, но все, кто некогда присутствовал при первом, авторском, исполнении этой мелодии и помнили слова, которые сами же они выкрикивали хором в задней комнате заведения небезызвестной мадам Дуду, прилагали колоссальные усилия, чтобы во время исполнения не умереть со смеху.
Но все это осталось в прошлом – и армия, и падение с лошади, когда Чигринский сломал ногу и, оказавшись в постели, начал от скуки сочинять музыку; в прошлом были и известность, а потом и настоящая слава – которая, впрочем, не помешала его отцу, отставному генералу, всегда находившемуся в ссоре со всеми, кроме себя самого, холодно процедить сквозь зубы: «Я надеюсь, ты знал, что делал, когда ушел в отставку ради твоих дурацких песенок…»
Нет, конечно, слава Дмитрия Ивановича была пока при нем, да и армейская выправка никуда не делась. Проблема была в том, что что-то сломалось в нем самом, раз музыка покинула его.
«И чем я только провинился?» – с досадой подумал он и вновь чихнул три раза подряд.
– Прошка! Почему такой собачий холод?
– Так вы сами-с вчера-с сказали, что вам жарко, сил нет, аж дышать не можете, – почтительно напомнил верный слуга. – Вот я и…
– Ты уморить меня хочешь? – возмутился Чигринский, ворочаясь с боку на бок и подтягивая одеяло повыше, чтобы сохранить тепло. – Вчера это, положим, было вчера, а сегодня – это сегодня, и вообще… Нет, – продолжал он, заводясь, – это прекрасно: я в собственном доме должен околеть от холода! Скажите, пожалуйста!
– Сейчас сделаем потеплее, – сообщил Прошка и куда-то умчался рысью.
Он прибежал с охапкой поленьев, по пути вернул на стол упавшие с него книжки и как-то очень ловко и умело растопил камин. Чигринский мрачно наблюдал за его манипуляциями. От каминов, вспомнил он, бывает угарный газ, а от угарного газа умирают. Лежал бы он сейчас окоченевший и тихий, причитали бы над ним в два голоса Прошка и обширная кухарка Мавра, и никто, ни один человек на свете не узнал бы, что он исписался, как последний, прости господи, беллетрист…
Поленья потрескивали, огонь весело полыхал, и луна на картине походила уже не на апельсин, а на лимон. Чигринский посмотрел на нее и выразительно скривился.
– Который час?
За слугу ответили стенные часы, которые пробили десять. Чигринский возмутился сам себе и полез из постели прочь. Оттолкнув Прошку, он надел любимый, драный и много раз чиненный коричневый халат, который верой и правдой служил ему много лет. Данный халат уже давно являлся причиной молчаливой борьбы между ним и слугой, который находил (кстати, вполне резонно), что знаменитому композитору, гусарскому офицеру и вообще российскому дворянину негоже щеголять дома в каких-то обносках. Время от времени Прохор подступался к господину со смиренной просьбой избавиться наконец от халата и сменить его на что-нибудь приличное. Чигринский кивал, соглашался, но от халата отказываться не спешил. Вконец отчаявшись, Прохор съездил в модный магазин и приволок оттуда восхитительный шлафрок, расшитый павлинами и пестрой чепухой, изображающей сад с такими диковинными цветами, о которых даже не подозревает ботаника. Особенный соблазн шлафрока заключался в том, что пояс у него был с золотыми кистями, а, по мысли Прохора, ни один человек в мире не мог устоять против таких кистей. И точно, Дмитрий Иванович скинул наконец коричневого залатанца, облачился в шлафрок и даже, чего за ним отродясь не водилось, покрутился перед зеркалом. Держа на вытянутых руках обвисший тряпкой проклятый халат, Прохор тихо-тихо попятился к выходу, не чуя под собой ног. Шаг, другой…
Ознакомительная версия.