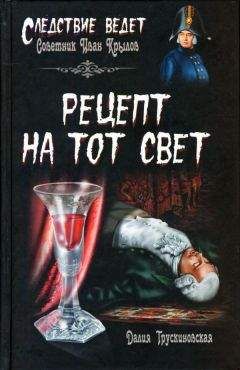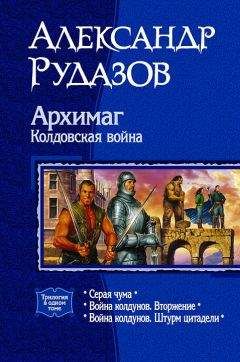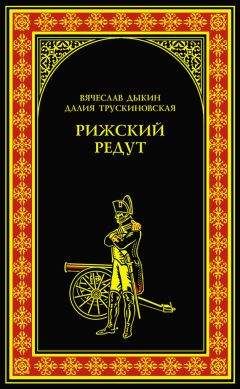Ознакомительная версия.
— Герр Крылов тоже играет на скрипке, — вставил шулер. — Мы бы могли устроить здесь маленький домашний концерт.
— Мы подружимся, — уверенно сказал Видау. — Герр Крылов, может быть, хоть вы расскажете мне правду о том, как бедного Коцебу сослали в Сибирь? То, что говорил он, когда весной мы встретились, было совершенно нелепо. Он спешил в Кёнигсберг, провел в Риге лишь день. Мы здесь настолько благодарны покойному государю за его мудрые решения, что даже в мыслях боимся в чем-то его упрекать… и все же… Герр Крылов, если вам что-то известно об этом деле, умоляю, поделитесь!
Это действительно была странная история, которая дошла до Зубриловки в зловещем виде. Варвара Васильевна даже сгоряча настаивала, что Косолапого Жанно нужно спрятать в какой-то из дальних деревень, и чуть ли не с фальшивой бородой. Ибо если пострадал благонамереннейший Коцебу и был отправлен куда-то за Тобольск, то злоехидного вольтерьянца Крылова повезут до самой Камчатки.
Коцебу, человек мирный, добродушный, склонный во всем примечать смешные черточки и от души им радоваться, при этом имел способность восстанавливать людей против себя. Он еще до Ревеля успел потрудиться в дирекции петербуржского немецкого театра и отметиться в когорте драматургов, сделавших главным героем своей очередной трагедии Дмитрия-Самозванца. Затем он путешествовал, в Германии написал сгоряча такой памфлет, что пришлось скрываться от полиции, вернулся в Россию, опять поступил на службу, какое-то время пробездельничал и подал в отставку. В девяносто седьмом он был приглашен в Вену на должность секретаря императорского театра и там прославился как неслыханной плодовитостью по комедийной части, так и ссорами с актерами. Пришлось покинуть столь приятный пост и, благо император Франц назначил ежегодную пенсию в тысячу флоринов, опять пуститься в беззаботные путешествия. Весной восьмисотого года Коцебу вздумал увидеться с родственниками первой жены и со старшими детьми, которые воспитывались в Санкт-Петербурге, в кадетском корпусе.
Первым российским городом на его пути был Поланген. Там драматурга арестовали и под конвоем повезли в Митаву. Было это в конце апреля. Перепуганная жена и дети поехали следом — и напрасно. Из Митавы его без всяких объяснений отправили в Витебск, и там лишь он узнал, что цель его вынужденного путешествия — Тобольск. В доказательство показали ему его новый паспорт, выправленный по приказанию императора Павла Петровича. А принадлежащий ему багаж, оставшийся в Митаве, попросту конфисковали.
— Я знаю примерно столько же, сколько вы, герр Видау, — сказал Маликульмульк. — Вы даже знаете более — вы ведь с ним встречались.
— Он рассказывал, что ожидал увидеть в Тобольске дикарей, но приехал — и обнаружил, что в городском театре идут его комедии! Оттуда он писал императору, клялся в своей благонадежности, а несколько дней спустя его повезли еще дальше — в город Курган. Это было в июне, а в июле пришло высочайшее повеление — Коцебу освободить и немедленно отправить в Санкт-Петербург. Дорога до Москвы заняла меньше месяца — представляете, с какой скоростью он мчался? — спросил Видау. — Но что говорят в столице об этом странном случае? Отчего покойный император простил моего приятеля, мне известно, однако за что он его простил? В чем он согрешил?
— Вы имеете в виду ту пьеску о кучере Петра Великого? — осведомился Маликульмульк.
История была вполне в духе Павла Петровича, преклонявшегося перед памятью предков. Как это творение попало ему в руки — неведомо, он прочитал, растрогался, и автор пьески непременно должен был быть вознагражден — Коцебу мало того, что воротили в столицу, так ему еще подарено было поместье в Лифляндии с двумя сотнями душ, он вмиг оказался надворным советником и директором немецкого придворного театра с жалованьем свыше десяти тысяч рублей в год. Император объявил себя также его поклонником и велел ставить его пьесы в Эрмитаже — ради такого не жаль и в Сибирь прокатиться…
— Да. Так что ж говорят в столице?
По дороге в Ригу Маликульмульк побывал в Москве и в Санкт-Петербурге. Кое-что слышал — событие-то было недавнее.
— Некоторые полагают вину Коцебу в том, что он был писателем — и этого довольно. По крайней мере, так выразился граф Кутайсов, а он был близок к покойному императору и знал немало. А другие считают — напрасно Коцебу путешествовал во Францию, да еще дважды, и в самый разгар бунта. Но путешествия — еще не самый весомый повод. Ваш приятель перевел с французского историческое сочинение маркиза де ла Валле о философских воззрениях времен Людовика Четырнадцатого, а маркиз-то оказался отъявленным бунтовщиком. Возможно, сей перевод и попал в руки к покойному императору с десятилетним опозданием. Такое случается…
Маликульмульк полагал, что дал исчерпывающий ответ. Но Видау, помолчав, еще раз повторил вопрос, и это уже была не благодушная болтовня гостеприимного хозяина — он требовал ответа.
— Мне более ничего не известно, герр Видау, — сказал Маликульмульк. — Я ведь был в столице накануне коронации государя, всех интересовало только это событие. Но, если угодно, я напишу друзьям, они постараются узнать больше.
Он только не добавил, что друзей-то почти не осталось. У столицы свои замашки — когда человек сперва несколько лет разъезжает по провинции, потом и вовсе поселяется где-то под Тамбовом, его забывают. Даже самый талантливый сочинитель должен постоянно напоминать о себе.
— Буду признателен. Мы с вами друзья по несчастью, любезный герр Крылов, мы оба теперь — жители провинции. Но вы рано или поздно вернетесь туда, где хорошие театры, а я останусь тут навсегда… — это было сказано с удивительной, болезненной просто искренностью. «Навсегда» в девяносто лет — это уже почти эпитафия.
Даже непонятно было, что тут ответить.
— Мне кажется, провинция осталась за стенами вашего дома, герр Видау, — догадался фон Димшиц. — Здесь — музыка, новые книги, интересные разговоры. Не все ли равно, что снаружи?
— Я тоскую по театру, милый Леонард. Впрочем — мое положение действительно не так уж скверно. Меня любят — дай вам Бог, чтобы и о вас в старости заботились не хуже. Меня любят — стоило прожить такую долгую жизнь, чтобы сказать это, понимаете?
Тут Маликульмульк заметил, что любящие сыновья с невестками, внуки и правнуки мало того, что не участвуют в беседе, так еще держатся на расстоянии в три-четыре шага по меньшей мере. И рядом с Видау никого из них нет.
— Одно плохо — уходят старые мои приятели. Покойный Илиш не был мне близким другом, но я, когда еще бывал в магистрате, часто заходил к нему в аптеку. Мы были добрые приятели, хотя он — моложе… да, он — моложе, а ушел первым. Вы не представляете, герр Крылов, как много сделали для своего начальника тем, что потребовали вскрыть тело моего покойного приятеля. Я вам прямо скажу, когда над нами поставили генерал-губернатором русского, все мы были очень недовольны. Рига — немецкий город, разве у его величества мало честных и преданных генералов-немцев? Насколько я знаю, нас среди офицеров — большинство. А присылают русского, князя Голицына. И чего прикажете от него ждать? И вот начальник его канцелярии помогает полиции раскрыть убийство рижского бюргера! Указывает на ошибку врача, требует вскрытия тела! Герр Крылов, я знаю, что такое политика, что такое интриги, я чуть не сорок лет в магистрате, был и ратсманом, и бургомистром. Один такой поступок заменит множество речей и распоряжений… дети! Вы слышали, что я сказал?
Голос Видау был довольно громок — видно, сказывалась давняя выучка: командовать собранием в магистрате, когда разгорается спор, примерно то же, что эскадроном на поле боя. Сыновья и внуки подошли поближе.
— Да, отец, — произнес мужчина лет шестидесяти, крепкого сложения, с таким же длинным лицом и рубленым подбородком, как старец Видау, с таким же звучным голосом, с напудренными волосами, причесанными, как при покойном Павле Петровиче, в две букли и с замшевым кошельком для косы на затылке. — Это так. Его сиятельство и впредь будет защищать русских, было бы странно, если бы он от этого отказался. Но вы, герр Крылов, показали, что и наши бюргеры могут чувствовать себя под защитой генерал-губернатора. Представь меня, отец.
— Ну да, я завладел вами вопреки всем правилам приличия! — рассмеялся Видау. — Я вообще в последнее время все меньше беспокоюсь о приличиях и все больше — о своем удовольствии. Я столько времени занимался серьезными делами, что заслужил несколько лет удовольствия. Больше меня к серьезным делам и на канате не подтащишь. Рекомендую — мой старший сын Отто Матиас Видау. Еще десять лет назад я бы с гордостью рассказал, как много значит его слово в магистрате. А теперь я с не меньшей гордостью скажу — сын выписал для меня первое издание «Разбойников» Шиллера, то самое, анонимное! У меня есть, разумеется, и Маннгеймское, и издание Леффлера, но о самом первом я просто мечтал. И вот я горд — да, я горд тем, что мой сын дарит мне не посуду, не мебель, не золотую табакерку, а книгу.
Ознакомительная версия.