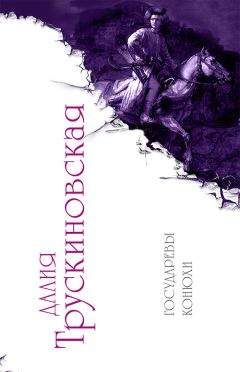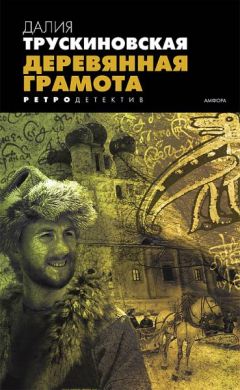Настасья надела свою синюю однорядку, но под ту, скорее всего, две или три сорочки, и нарядную головную повязку сменила на простую широкую ленту. Богатый косник из косы тоже выплела. Вышла она с мешком в одной руке и узелком — в другой.
Данила встретил ее у крылечка подбоченясь и тщательно за собой следя — вся конюшня старательно истребляла в нем привычку раскачиваться, и он сам в конце концов начал иногда ловить себя на странном телодвижении.
— Хорош детинушка, хоть сейчас под венец, — сказала Настасья. — Держи-ка мешок.
Мешок оказался небольшой, но чертовски тяжелый, пришлось надевать кафтан в рукава, а мешок этот закидывать на спину.
— Бережней! — вскрикнула Настасья, когда молодецким размахом Данила отправил груз за правое плечо.
Крик опоздал — молодец был крепко ушиблен содержимым мешка и даже охнул от внезапной боли.
— Что там у тебя, кума? Каменные ядра?
— На кой? Там, куманек, кое-что поценнее ядер. Ребро себе не поломал? Нет? Тогда — идем.
Настасья повела куманька тихими переулками, в каких он отродясь не бывал. Казалось, она нарочно ходила кругами, петляла, как заяц. Наконец остановилась перед воротами.
— Сюда нам, куманек.
Но сразу Настасья не постучала. Сперва постояла, глядя в землю. Данила стоял рядом, недоумевая. Не сразу понял, что это беззвучная молитва.
Потом их впустили на двор. Настасья достала из узелка сверточек и отдала низенькому дедку в черной кудлатой шубе:
— Возьми, дедушка. Бог даст, разживусь, будет и еще.
Дедок принял сверток, перекрестил Настасью.
— Как там Филатка? — спросил тихонько.
— Филатка с Нестеркой вздумали по канату бегать. Дело опасное, да я не отговариваю. Персидские канатоходцы и государя тешат, и простой люд им щедро платит — чем наши хуже? Сегодня вон на дворе веревку натянули, с тростью стоять учились. Жалуются — подметки им режет!
— Побереги его, он у меня один остался.
— Да уж берегу. Сам видишь — более с собой не беру. Не бойся, дедушка, Филатка со мной не пропадет. Соберу настоящую ватагу — уйдем на север, там нас привечают. К нам бахарь хороший прибился, старины сказывает и срамных сказок столько знает — за зиму не переслушать.
— Ветер у тебя в голове, Настасьица…
— Такова уродилась, дедушка.
Данила молча слушал. Мешок за спиной сильно ему надоел, пора бы скинуть. Настасья повела Данилу в дом, дедок поплелся следом, затворил дверь, заложил засовом.
— Давай-ка сюда, — велела Настасья.
И выложила из мешка на лавку три длинных пистоля, мешочек с пулями, пороховницу.
— Заряжать научился?
— Научился.
— Вот пули. Нож при себе?
— Большого — нет.
— А засапожник?
— И засапожника нет. В Разбойном приказе отняли.
— Найди ему нож, дедушка.
— Турецкий разве? — неуверенно спросил дедок.
— Неси турецкий. Не пропадет, я сама присмотрю.
Дедок вышел из горницы.
— Неужто дедушка? — наконец полюбопытствовал Данила.
— Деду моему старший брат. Он из наших, из веселых. Когда ватаги разогнали и все наши домры с гудками на площадях пожгли, он с перепугу от дела отошел. В дорогу ему пускаться было не с руки, стар уже, так он на Москве поселился, пономарем в храм Божий его взяли, он грамотный. А что в веселых ходил — того не сказал. Филатка наш — его внучки сын. Чудом уцелел. Пришла семья на Москву, деда навестить, да и застряла. В чуму-то отсюда не выпускали. Один Филатка остался, да деда, вишь, никакая хвороба не берет. Он в дом добрых людей жить пустил, кое-как перебивается. Мы-то у него не останавливаемся, мало ли что — мы удерем, а ему тут оставаться.
Дедок вернулся, принес кривой обоюдоострый нож с костяным череном, в узорных ножнах.
— Откуда у тебя, дедушка? — спросил, осторожно пробуя лезвие, Данила.
— Казаки с южных украин привозят. Давай-ка, привешивай к поясу. И пистоль за пояс.
Сама Настасья тоже затянула поверх однорядки кушак, через плечо повесила перевязь-берендейку, как у заправского стрельца, с пороховницей, взяла себе два пистоля, прихватила и узелок. Вид у нее сделался не в меру строгий.
— Пойдем, благословясь, — сказала она.
— Ох, Настасьица, дуришь ты, не девичье дело… — проворчал дедок.
— А я и не девица. Идем!
По внутренней лестнице спустились в подклет, там отодвинули большой лубяной короб, и Данила увидел откидную деревянную крышку.
— В погреб, что ли, полезем?
— В погреб. Бери факел, куманек. Внизу запалим.
Факелов дедок приготовил им четыре. Он сам откинул крышку, Настасья полезла в черную глубину первая — она уже знала деревянную лестницу с высокими ступеньками. Дедок подал ей туда зажженную лучину, она запалила факел, и тогда уж вниз спустился Данила. Крышка у него над головой захлопнулась.
— Поделись огоньком, — попросил Данила.
— Получай, куманек, огня не жалко.
— И что же, будем тут сидеть и крыс с мышами поджидать?
Не ответив на подначку, Настасья пошла в дальний угол погреба. Там была яма, в яму вели земляные ступеньки, и когда Данила подошел поближе, то увидел низенькую деревянную дверцу с полукруглым навершием. Настасья отворила ее, из подземелья потянуло гнилью и сыростью.
— Вот туда и пойдем, — объявила она. — Не бойся, куманек, в обиду не дам. Филатка вон со мной хаживал — цел вернулся.
Данила нагнулся и следом за Настасьей вошел в ход. Это была долгая нора, шириной и высотой чуть меньше сажени, обложенная кирпичом. Пол довольно круто уходил вниз.
— Да тут зуб на зуб не попадает! — поежился Данила.
— Идти недалеко. Тут другая беда — воздух дурной. Свежий снаружи не проходит. Я впервые шла — думала, задохнусь. Где-то есть отдушины, да кто их прочищать станет? Пошли!
Данила и Настасья быстрым шагом пошли по грязному полу. Крыс не было, но под ногами что-то подозрительно хрустело — не человечьи ли косточки?
Данила не сразу догадался считать шаги. Начал после того, как спросил наконец Настасью, где это они бредут.
— Под Неглинкой, — был краткий ответ.
Данила невольно ругнулся.
— Это мы что же, в Кремль идем?!
— Под Кремль, куманек. А что ты всполошился? Дело житейское — я сама не раз так-то хаживала.
— Какого рожна тебе под Кремлем надобно? — строго спросил Данила и даже остановился для внушительности.
Настасья повернулась к нему.
— А надобно мне найти там одну… конурку одну…
— Под Кремлем?
— Да, куманек, — Настасья достала из-за пазухи сложенный бумажный лист. — Вот, кое-что удалось вычертить. Дедушка помогал. Он сюда смолоду лазил. Он рассказывал — как поляков из Кремля прогнали, стала Москва заново отстраиваться. И дома ставили — иной на месте сгоревшего, а иной — где придется. Вот и вышло, что оказался накрыт домом старый засыпанный колодец, откуда ведет в Кремль этот ход. Потом пристройку ставили, погреб копали — ну и докопались. Кабы мы в другую сторону пошли — пришли бы к колодцу, да на него смотреть нечего — всякой дрянью забит. А дедушка на хозяйской дочери повенчался и пришел сюда жить, помогал по хозяйству. Ты не гляди, что он маленький, это от старости, а плясун был знатный. Чтобы бабку за него отдали, побожился, что от нашего ремесла отстанет, будет жить на Москве смирно. А кончилось тем, что бабку плясать выучил, стала она хорошей плясицей, на боярские свадьбы приглашали. Мы, веселые, смирной жизни не выносим.
— То-то ты с пистолями и кистенем бегаешь.
— Пойдем скорее, дышать тут нечем! Выберемся из хода — все тебе растолкую.
Хотя Данила начал считать шаги с опозданием, но три сотни насчитал. Прикинул — нора была более чем в четыре сотни шагов, коли не во все пять сотен. Тимофей как-то раз из любопытства мерил шагами расстояние между верстовыми столбами — получилось полторы тысячи шагов. Но у Данилы-то, поди, ноги длиннее…
Нора уперлась в дверь. Дверь эта была толстая, дубовая, внушала своим видом невольное почтение. Даже непонятно было, как ее отворять.
— Вот тут-то придется вдвоем приналечь, куманек, — сказала Настасья. — Я хорошую палку припрятала, вон она, в углу. Подержи-ка факел…
Она вставила крепкую длинную палку, наподобие посоха покойного Бахтияра, в щель, налегла всем телом, Данила, стараясь не обжечь ее факелами, пособил — дверь отворилась.
— Теперь-то еще полбеды, мы с Филаткой ее смазали. Идем, куманек.
Они оказались в подвале с низкими сводами. Вид подвала Данилу не удивил — что еще может быть под землей? Удивило иное — сбоку стоял сруб, по всей видимости сосновый, а может, и из лиственницы — это дерево не гниет, не тлеет.
— Тут напьемся и хорошей водицы в сулейку возьмем. Родник тут, куманек. Вон, в трубу уходит и в Неглинку вытекает.
— Гляди ты, кто-то его, тот родник обихаживает, — заметил Данила.
— Может, и обихаживает. Стрельцы-то, что постарше, это место знают. Только лазить им сюда незачем. Им не за то деньги платят, чтобы под Кремлем прохлаждались. Иногда лишь государь-батюшка велит пройти, поглядеть, где что цело, где рухнуло.