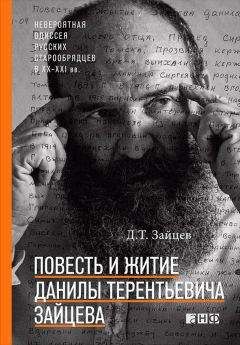Ознакомительная версия.
– Гайда! Гайда! – откуда-то из-под самых люстр взвизгнула высоко невесомая Зося, одной рукой вцепившись в жесткие капитанские волосы и весело размахивая другой.
Офицеры, подоспевшие на шум из буфета, ответили ей восторженными голосами. Гаркнули они вразнобой, но вышло громко, потому что оркестр к тому времени совсем смолк. Офицеры стащили Зоею с матлыгинского плеча и на руках пронесли через фойе, мимо гардеробной, где как раз кутались в меха бывшие маркизы и боярышни. Зося отсалютовала им белой ножкой в золотой сандалетке.
В пылу восторга офицеры не только доставили прекрасную Зоею к выходу. Они выволокли ее на улицу и дважды триумфально обнесли вокруг Собрания, оглушительно распевая:
Нет на свете царицы краше польской девицы…
Зося хохотала, как только одна она умела, и подпевала что-то свое – наверное, из подлинного Мицкевича. Декабрьский снег таял на ее румяном лице и горячей груди, которая так и выпрыгивала из муслина от хохота и от нестройных толчков несущих (они то и дело спотыкались на гололеде). Тонкий морозный туманчик окружил Зоею белым маревом. В снежных потемках она казалась совершенно неземной.
В зале же Собрания, как ни странно, возобновился бал. Боярышни и маркиза Помпадур вернулись царить на насиженные места, хотя могли видеть за окнами беспокойные тени и слышать грубые мужские голоса, не в лад выкрикивающие:
И как роза румяна…
И бела, как сметана…
Скандал имел продолжение.
На следующий день, уже с новогоднего, без всяких масок бала, Зоею опять вывели за непристойное поведение. Вернее, за непристойный костюм! На этот раз она какой-то хитростью просочилась на бал в глухом, приютского кроя коричневом платье. Наверное, именно в нем она навещала ночами Антонию Казимировну. Высокий ворот и рукава до ногтей выглядели среди голых плеч и рук других дам безобразно и неприлично. Сама Зося тоже была чересчур прилизанной, бледноватой, с синими кругами у глаз. Она осунулась и неузнаваемо побледнела за прошедшие сутки.
Дежурный офицер – уже другой, не вчерашний – попросил Зоею удалиться. Он обязал ее сменить платье на более открытое, с подобающим случаю декольте.
Зося шла из зала медленно. Она приняла вид христианской мученицы, которую ведут в цирк на растерзание некормленым львам, вепрям и меделянским собакам. Хищников, должно быть, олицетворяли здесь голоплечие и гологрудые бальные дамы. Многие очевидцы этой сцены сразу вспомнили модный роман
Сенкевича[9] и то, что Зося Сенкевичем бредит. Она была в эту минуту так возвышенно прекрасна, что офицеры, бегавшие вчера вокруг Собрания, и еще кое-какие неженатые и с воображением господа потянулись вслед за ней к выходу. В мужских этих лицах, как всегда непоэтически красных, появилось в тот миг что-то христианское. Как назло, и оркестр играл какой-то плаксивый вальс. Быть может, Зося нарочно подгадала к этому вальсу свой выход. Эффект получился оглушительный.
На следующий день Зося слегла. Сначала подозревали скарлатину (у одного из офицеров, носивших Зоею вокруг Собрания, в семье была скарлатина, и двое детишек умерли). Однако у Зоей началось воспаление легких, а потом и плеврит. Две недели она лежала в жару, никого не узнавала, и все были уверены, что она умрет. Кока Леницкий и Митенька Шляпин в отчаянии собрались застрелиться (позже Митя все-таки застрелился, и тоже из-за Зоей, но в других обстоятельствах).
Доктор Фрязин, испробовав все средства, решил лечить больную какими-то опасными кореньями, которые могли спасти Зосину жизнь, но могли и ввергнуть в безумие. Этому эксперименту помешала ревнивая Аделаида Петровна, расколотившая склянки.
Зося выздоровела и без корешков. После болезни она всегда становилась особенно веселой и буйной. На глазах розовела, набирала вес, наливалась своей сметанной красотой. Нетские дамы подозревали в этих метаморфозах нечто дьявольское.
Анна Терентьевна обычно узнавала о выходках Зоей с брезгливым удивлением. Вникать в подробности она не желала. Антонию Казимировну, породившую столь непостижимое чудовище, можно было только жалеть. Одного Анна Терентьевна понять не могла: зачем Зося торчит в Нетске – городе небольшом, захолустном, азиатском? Зачем морочит местных жителей, которых свести с ума ничего не стоит, так мало замечательного видели они в жизни? Зачем она позорит семью, которую по-своему любит? Ведь Зося вполне могла бы сумасбродничать в столицах, где блеску, в Зосином вкусе замешанного на грязи, хоть отбавляй. Там полно состоятельных мужчин, которых Зося любит обирать. А здесь? Ну что такое Морохин?
– Куда ты, Лиза? – вскинулась Анна Терентьевна, увидев, что племянница из столовой скользнула в дверь.
– В сад. Жарко! – ответила Лиза и зевнула.
Зевнула она притворно. Так зевали, судя по книжкам, всякие Онегины и Печорины. На самом деле ни скучно, ни особенно жарко ей не было, хотя сад-огород так и пылал зноем.
Когда Лиза была маленькой, няня с тетей заставляли ее спать после обеда. Сами они делали это без всякого принуждения. Чтоб Лиза в их сонный час не ходила из дому, ее пугали полудницей – страшной зубастой бабой, которая шастает по огородам, прячется в ботве, хрустит в кустах. Эта баба пожирает встречных детей, если дети вместо того, чтоб дремать в жарких постельках, тайком прокрадываются из дому, обирают малину, топчут грядки и суют в рот терпкую неспелую зелень, от которой потом болит живот.
Лиза давно знала, что никакой полудницы нет (прогрессивный Павел Терентьевич говорил, что пугать детей всякой дрянью могут только темные, отсталые люди). Однако послеобеденный жар, знойная тишина, запах перегретой земли и вялых листьев всегда казались Лизе таинственными. Ведь в этот час в жухлой траве, в голых колючках крыжовника, в сиренях всегда кто-то тихонько, на разные голоса сипит и потрескивает. А воздух изгибается волнами, как муаровый! Лизе давно хотелось увидеть в этих зыбких потоках мираж – дальнее озеро, или глинобитный караван-сарай, или какой-нибудь далекий город вроде Семипалатинска, перенесенный сюда тысячей отражений в пыльных частицах. Она читала, что такое вполне может быть, и надеялась увидеть что-то чудесное, когда вглядывалась в раскаленную марь. Но всегда – и теперь! – качались в волнах зноя лишь ближайшие крыши, заборы и заросли лебеды, которая от засухи сделалась хрупкой, а ее стебли и края листьев окровавились, совсем как у кладбищенской земляники.
Впрочем, сегодня огородная картина была веселей, чем обычно: над аккуратным забором Фрязиных, который положил предел зарослям одинцовской лебеды, улыбались две очень похожие черноглазые физиономии. Одна физиономия была под вязаной шляпкой с висячими полями, а другая простоволосая, стриженая. На макушке стриженой головы топорщились два вихра (отчего няня Артемьевна обычно делала вывод, что у Вовы Фрязина будет целых две жены).
– Откуда вы? Где прятались? – закричала Лиза близнецам. – Я тут со скуки пропадаю!
Мурочка сделала страшное лицо и приложила палец к губам:
– Тише! Она! Ее разморило, она накрылась мокрой простыней и спит в новой беседке. Слышишь?
Лиза еще от своего дома услышала какой-то хриплый мерный звук. Она даже подумала, не полудница ли голос подает, но потом себя пристыдила – нет никаких полудниц в природе!
– Так это Аделаида Петровна храпит? – обрадовалась Лиза. – А я думала, может, Дамка… Впрочем, ерунда. Есть дела поважнее. Идите-ка сюда!
У Одинцовых беседок не было, зато имелась довольно укромная скамейка за бывшим каретным сараем. На этой скамейке Лиза и поведала близнецам о Кашином утреннем визите и страшных Кашиных словах.
– Ты предлагаешь наше дело совсем бросить? – разочарованно протянул Вова. – Кашины страхи – полная ерунда! Ничего опасного не вижу. Каша всегда была слегка полоумная.
– А страшные люди? Вы с Рянгиным их сами видели, – напомнила Мурочка.
– Если не лезть им на глаза, они и знать ничего не будут, – отмахнулся Вова. – Я считаю, наблюдение за склепом надо продолжить. А главное, нужно проследить в городе за Зосей Пшежецкой, узнать, с кем она встречается, куда ездит, кто с ней водится. Вдруг появится кто-то подозрительный – в гриме, с накладной бородой?
– Размечтался! – сказала Мурочка. – Где ты видел такие чудеса? И потом, ты сумеешь отличить накладную бороду от настоящей?
– Конечно! Ник Картер умел, а я не смогу? Во-первых, искусственные бороды тусклые, чрезмерно окладистые и густые. А во-вторых, они неподвластны порывам ветра.
– А если ветра не будет?
– Значит, надо подойти и как бы невзначай, указывая, скажем, на горизонт или летящую птицу, задеть рукой сомнительную бороду. Если она посажена на клей, легко отделится от лица.
– А если она настоящая?
– Останется торчать.
– А ты не получишь по затылку? – усомнилась Мурочка.
Ознакомительная версия.