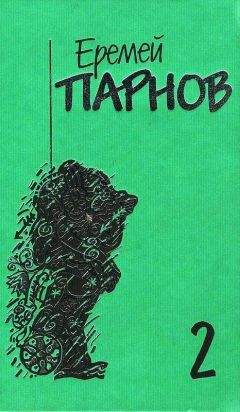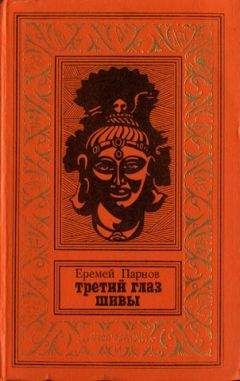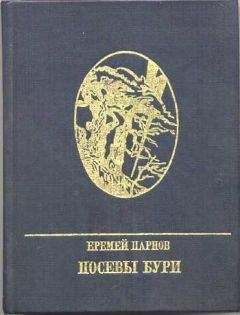— Из какой жизни?
— Средняя Азия. С первого по тринадцатый век.
— Почему именно этот промежуток?
— Интереснейший период! Огнепоклонники. Распространение буддизма из Индии. Смешение культур. Бактрия. Кушанское царство.
— Мне это, прости, ничего не говорит. Профан.
— Я пока тоже. Но читаю. Скоро буду на уровне.
— Удивительный ты человек, Юр! Каждый раз хватаешься за новое. Другие писатели десятилетиями на одной теме сидят, а ты носишься по эпохам и континентам. Порхаешь, так сказать…
— Так ведь интересно! Скучно мне одно и то же пережевывать, понимаешь? На освоенном материале работать, конечно, легче, но тоскливо как-то… Нетерпение меня подстегивает все время, старик, нетерпение. Точнее слова не нахожу… Нет, не любопытство это, а именно нетерпение… Хотя и любопытство, конечно, тоже.
— Очень логично, сэр. Но я тебя, кажется, понимаю. А чем все-таки ты объяснишь свой выбор? Ну, допустим, тебя гонит нетерпение, жажда нового, скажем, и ты бросаешься на поиски чего-то непривычного, экзотического. Но выбор? Чем продиктован твой выбор? Почему вдруг Средняя Азия, а не Центральная Америка?
— Я написал уже книгу «Золото инков».
— Ах да, помню, прости… Ладно, пусть не Америка — Африка. Чем тебе не нравится государство Бенин?
— Я не был в Африке.
— А в Америке был?
— Ив Америке не был, — рассмеялся Березовский. — Только уж очень интересной показалась мне история о пропавших сокровищах инков. Написать захотелось… Зато в Средней Азии бывал не раз. В Бухаре, Самарканде, Хиве, Термезе, даже в Шахрисабзе, где родился Тимур… А на тему натолкнулся случайно. В прошлом году Генка Бурмин пригласил меня на раскопки в Курган-Тепе.
— Гена уже ведет раскопки? — удивился Люсин. — Я думал, он еще в аспирантуре учится…
— Одно другому не мешает… Аспирантуру он уже два года, как закончил. В кандидаты вышел. Раскапывает теперь буддийский монастырь Аджина-Тепе.
— Интересно…
— Очень интересно, старик! Домусульманский период в истории нашей Средней Азии — сплошная нераскрытая тайна. Если бы ты видел эти древние развалины в пустыне! Блеск черепков в лунном свете! Облупленные фрески… Таинственные ступы… А сама пустыня? Особенно весной, когда море тюльпанов и ветер от зацветающей полыни зеленый и горький! Эх, даже сердце сосет, до того хочется снова все повидать.
— Ну и поезжай себе на здоровье. Уверяю тебя, что в Каракумах сейчас ненамного жарче, чем тут. И гари этой нет.
— Гари! — усмехнулся Березовский. — Там воздух сух и ароматен. Он прозрачен, как горное озеро в Шинге. С холма открывается необозримый вид на далекие горы, тонкий контур которых словно висит между землей и безоблачным небом.
— Осваиваешь тему, чувствуется.
— Думаешь, я шучу?
— С чего ты взял? Я ведь тоже кое-что повидал… Ты сейчас рассказывал, а у меня перед глазами пустыня стояла, черный щебень, пыльные скалы Памиро-Алая, серые развалины в зарослях саксаула. Так что я тебя вполне понимаю. Будь я на твоем месте, махнул бы куда-нибудь в Ургенч либо в Хорог… Кумысу бы испить!
— «Махнул»! А работать кто за меня будет? В архивах копаться? По музеям рыскать? Нет, мне пока рано ехать.
— Не горюй! Закончишь свои разыскания и махнешь. Каких-нибудь пять часов на самолете, и все дела. Ни виз не надо, ни пропусков… Гена, значит, монастырь буддийский раскапывает… А Мария как? По-прежнему в Аэрофлоте?
— Не знаю. Они ведь разошлись, братец, и, кажется, уже давно, чуть ли не в позапрошлом году.
— Разошлись? Но почему?!
— Откуда я знаю? Разошлись, и все…
И тут «картинка» у Люсина в голове возникла. Ночная вода, черная, неподвижная. Белый пар над ней стелется, колышется изредка под легким дуновением ветра. Тяжелые, наполненные лунным сиянием капли скатываются с нависающих листьев и трав. Сонными кругами разбегаются фосфорические шарики по лакированной глади. Невидимые паутинки то вспыхивают тончайшими лучиками, то угасают в непроглядной тени. Совы кричат и болотные выпи. Летучая мышь кувыркается в вышине, и диск восходящей луны пепельно туманится, заслоненный на мгновение перепончатым крылом. Но вдруг задувает ветер сильнее. Холодный туман гонит с лесных оврагов и медвяных лугов. И вот уже все утонуло в холодном облаке, и только луна еще лоснится сквозь колышущиеся волокна расплывчатым сальным пятном. Но вскоре и она меркнет. И никто не увидел и не услышал, как всплеснула за туманом сонная вода.
«К чему бы это?» — подумал Люсин.
— Ты чего? — Березовский удивленно взглянул на Люсина. — Ну и видок у тебя, отец!
— А? — Люсин с трудом возвращался к действительности. — Чего?
— Да ничего! Просто ты был вылитый роденовский «Мыслитель» с некоторым налетом ротозейства.
— Праздничного верблюда, начиненного барашками, ел? — спросил Люсин, чтобы перевести разговор.
— Что там верблюд! — пренебрежительно фыркнул Березовский. — А лягушку по-королевски ты пробовал? То-то и оно! Знаешь, как ее готовят? — И, не дожидаясь ответа, принялся объяснять, смакуя подробности: — Берут зеленый кокос и, не срывая его с пальмы, подрезают один из трех ростков. Потом сверлят в этом месте крохотную дырочку и пускают в орех манюсенького головастичка. Понимаешь? Дырку не замазывают, чтобы он не задохся. Соображаешь? Через три месяца головастик вырастает в здоровеннейшую тропическую лягушку, всю как есть пропитанную кокосовым молоком. Тогда ее жарят во фритюре и соответственно употребляют по назначению. Причем всю целиком, а не только лапки, как обычно. Это объедение! Воздушный поцелуй храмовой танцовщицы!
— Впечатляет.
— Эх, только на Востоке еще остались кое-какие чудеса в наш рациональный век проблемы окружающей среды.
— Полагаешь? — меланхолично осведомился Люсин.
Утро понедельника преподнесло Марку Модестовичу Сударевскому несколько неприятных сюрпризов. На станции «Планерная», где находился его научно-исследовательский институт, он поскользнулся и чуть не упал в оставшуюся после ночной грозы мутную глинистую лужу. Неуклюже взмахнув над головой туго набитым портфелем, он сорвал с себя очки, которые тут же исчезли в желтой воде. Только чудо помогло ему сохранить равновесие и устоять на ногах. Но светло-серый, в мельчайшую клетку костюм «столетие Одессы» покрыли отвратительные охряные брызги. А потом Марку Модестовичу пришлось нашаривать в луже очки.
Беда не приходит одна. Едва он появился в дверях лаборатории, как заплаканная Дагмара Петровна ошарашила его новостью, что гигантский кристалл циркона, который они бережно выращивали шестнадцать недель, окончательно запорот. Но не успел бедный Марк Модестович даже задуматься над возможными последствиями неудачи, как на его столе затренькал внутренний телефон. Звонила секретарша директора Марья Николаевна. Игнорируя вежливый лепет приветствий, она сугубо официально предложила старшему научному сотруднику Сударевскому подняться к Фоме Андреевичу. И это было самой худшей из всех свалившихся на него в то утро невзгод. Он мог лишь гадать, как и когда провинился перед директором, поскольку ничего, кроме разноса, от встречи с ним не ожидал.
Марк Модестович надел халат, что сразу же придало ему деловой, энергичный вид и несколько прикрыло изъяны пострадавшего костюма. Отмыв помутневшие от подсыхающей глины очки в тонкой золотой оправе и протерев их замшей, он вышел в коридор. Для успокоения нервов достал сигарету, ломая спички, кое-как прикурил и сделал несколько торопливых затяжек. Швырнув окурок в фаянсовую урну, зашел в туалет причесаться перед зеркалом. Его смоляные вьющиеся волосы не нуждались в расческе, и он только пригладил их рукой. Видом своим остался недоволен. Лицо бледное, осунувшееся, под глазами нездоровые тени. На всякий случай проглотил таблетку но-шпы.
Войдя в приемную, он поклонился Марье Николаевне и тихо присел в самом дальнем углу, между канцелярским шкафом и столиком с кофеваркой. Секретарша едва заметно кивнула в ответ, не отрывая глаз от машинки. Печатала она двумя пальцами, но ловко и очень быстро.
Закончив лист, она разложила копии и отделила копирку, потом замкнула ящик стола и, прихрамывая, как подбитая утка, скрылась за зеленой кожаной дверью. Потянулись минуты ожидания. Несколько раз звонил телефон, но Марк Модестович не знал, как ему быть: то ли снять трубку и услужливо доложить потом о звонке секретарше, то ли отстраниться. Решил, что лучше инициативы не проявлять.
Вернулась Марья Николаевна и, ничего ему не сказав, уселась разбирать почту. Надрезав сбоку очередной конверт, бегло проглядев письма, она соединила их скрепкой. Некоторые пакеты оставались нетронутыми и шли в специальную папку, где золотом было вытиснено: «Лично». Марка Модестовича она, казалось, не замечала вовсе.