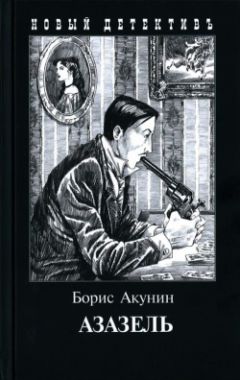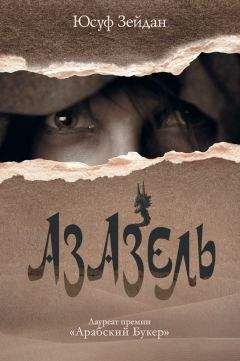Ознакомительная версия.
Эраст Петрович кивнул, ибо не знал, что на это сказать, и углубился в чтение свидетельских показаний. Протоколов было изрядно, с десяток, самый подробный составлен со слов дочери действительного тайного советника Елизаветы фон Эверт-Колокольцевой 17 лет и ее гувернантки девицы Эммы Пфуль 48 лет, с которыми самоубийца разговаривал непосредственно перед выстрелом. Впрочем, никаких сведений помимо тех, что уже известны читателю, Эраст Петрович из протоколов не почерпнул — все свидетели повторяли более или менее одно и то же, отличаясь друг от друга лишь степенью проницательности: одни говорили, что вид молодого человека сразу пробудил в них тревожное предчувствие («Как заглянула в его безумные глаза, так внутри у меня все и похолодело,» — показала титулярная советница г-жа Хохрякова, которая, однако, далее свидетельствовала, что видела молодого человека только со спины); другие же свидетели, наоборот, толковали про гром среди ясного неба.
Последней в папке лежала мятая записка на голубой бумаге с монограммой. Эраст Петрович так и впился глазами в неровные (верно, от душевного волнения) строчки.
«Господа, живущие после меня!
Раз вы читаете это мое письмецо, значит, я вас уже покинул и познал тайну смерти, которая сокрыта от вас за семью печатями. Я свободен, а вам еще жить и мучиться страхами. Однако держу пари, что там, где я сейчас и откуда, как выразился принц Датский, ни один еще доселе путник не вернулся, нет ровным счетом ничего. Кто со мной не согласен — милости прошу проверить. Впрочем, мне до всех вас нет ни малейшего дела, а записку эту я пишу для того, чтобы вам не взбрело в голову, будто я наложил на себя руки из-за какой-нибудь слезливой ерунды. Тошно мне в вашем мире, и, право, этой причины вполне довольно. А что я не законченная скотина, тому свидетельство кожаный бювар.
Петр Кокорин»
Непохоже, что от душевного волнения — вот первое, что подумалось Эрасту Петровичу.
— Про бювар это в каком смысле? — спросил он.
Помощник пристава пожал плечами:
— Никакого бювара при нем не было. Да чего вы хотите, не в себе человек. Может, собирался что-то такое сделать, да передумал или забыл. По всему видать, взбалмошный был господин. Читали, как он барабан-то крутил? Кстати, в барабане из шести гнезд всего в одном пуля была. Я, например, того мнения, что он и не собирался вовсе стреляться, а хотел себе нервы пощекотать — так сказать, для большей остроты жизненных ощущений. Чтоб потом слаще елось и пикантней кутилось.
— Всего одна пуля из шести? Надо же, как не повезло, — огорчился за покойника Эраст Петрович, которому все не давал покоя кожаный бювар.
— Где он живет? То есть, жил…
— Квартира из восьми комнат в новом доме на Остоженке, и прешикарная, — охотно стал делиться впечатлениями Иван Прокофьевич. — От отца унаследовал собственный дом в Замоскворечье, целую усадьбу со службами, однако жить там не пожелал, переехал подальше от купечества.
— И что, там кожаного бювара тоже не нашлось?
Помощник пристава удивился:
— Что ж мы, обыск, по-вашему, устроить должны были? Я вам говорю, там такая квартира, что боязно агентов по комнатам пускать — как бы их бес не попутал. Да и к чему? Егор Никифорыч, следователь из окружной прокуратуры, дал камердинеру покойника четверть часа вещички собрать — да под присмотром городового, чтоб не дай Бог не упер чего хозяйского, — и велел мне дверь опечатать. До объявления наследников.
— А кто наследники? — полюбопытствовал Эраст Петрович.
— Тут закавыка. Камердинер говорит, что ни братьев, ни сестер у Кокорина нет. Есть какие-то троюродные, да он их и на порог не пускал. И кому такие деньжищи достанутся? — завистливо вздохнул Иван Прокофьевич. — Ведь это ж представить страшно… А, не наша печаль. Адвокат либо душеприказчики не сегодня-завтра объявятся. Еще и суток не прошло. И тело-то пока у нас в леднике лежит. Может, завтра Егор Никифорыч дело закроет, тогда и завертится.
— И все же это странно, — наморщив лоб, заметил юный письмоводитель. — Если уж человек в предсмертном письме специально про какой-то бювар указал, неспроста это. И про «законченную скотину» что-то непонятно. А ну как в том бюваре что-нибудь важное? Вы как хотите, а я бы непременно в квартире поискал. Сдается мне, что вся записка из-за этого бювара написана. Тут какая-то тайна, право слово.
Эраст Петрович покраснел, боясь, что про тайну у него слишком по-мальчишески выскочило, но помощник пристава ничего странного в его соображении не усмотрел.
— И то, следовало хоть в кабинете бумаги просмотреть, — признал он. — Егор Никифорыч вечно спешат. Семья у него сам-восьмой, так он все норовит с осмотра или дознания побыстрей домой улизнуть. Старый человек, год до пенсии, чего вы хотите… А вот что, господин Фандорин. Не угодно ли съездить самим? Вместе и посмотрим. А печать я потом новую навешу, дело небольшое. Егор Никифорыч не обессудит. Какое там — поблагодарит, что не тормошили лишний раз. Скажу ему, что из Сыскного управления запрос был, а?
Эрасту Петровичу показалось, что тощему помощнику пристава просто охота получше рассмотреть «прешикарную» квартиру, да и с «навешиванием» новой печати, кажется, тоже получалось как-то не очень, но уж больно велик был соблазн. Тут и в самом деле пахло тайной.
* * *
Убранство квартиры покойного Петра Кокорина (парадный этаж богатого доходного дома возле Пречистенских ворот) на Фандорина большого впечатления не произвело — во времена папенькиного скороспелого богатства живал и он в хоромах не хуже. Посему в мраморной прихожей с трехаршинным венецианским зеркалом и золоченой лепниной на потолке коллежский регистратор не задержался, а прямехонько прошел в гостиную — широкую, в шесть окон, в наимоднейшем русском стиле: с расписными сундуками, с дубовой резьбой по стенам и нарядной изразцовой печью.
— Бонтонно проживать изволили, я же говорил, — почему-то шепотом выдохнул в затылок провожатый.
Эраст Петрович был сейчас удивительно похож на годовалого сеттера, впервые выпущенного в лес и ошалевшего от остро-манящего запаха близкой дичи. Повертев головой вправо-влево, он безошибочно определил:
— Вон та дверь — кабинет?
— Точно так-с.
— Идемте же!
Кожаный бювар долго искать не пришлось — он лежал посреди массивного письменного стола, между малахитовым чернильным прибором и перламутровой раковиной-пепельницей. Но прежде чем нетерпеливые руки Фандорина коснулись коричневой скрипучей кожи, взгляд его упал на фотопортрет в серебряной рамке, стоявший здесь же, на столе, на самом видном месте. Лицо на портрете было настолько примечательным, что Эраст Петрович и о бюваре забыл: вполоборота смотрела на него пышноволосая Клеопатра с огромными матово-черными глазами, гордым изгибом высокой шеи и чуть прорисованной жесточинкой в своенравной линии рта. Более же всего заворожило коллежского регистратора выражение спокойной и уверенной властности, такое неожиданное на девичьем лице (почему-то захотелось Фандорину, чтоб это непременно была не дама, а девица).
— Хороша-с, — присвистнул оказавшийся рядом Иван Прокофьевич. — Кто же это такая? Позвольте-ка…
И он без малейшего трепета, кощунственной рукой извлек волшебный лик из рамки и перевернул карточку обратной стороной. Там косым, размашистым почерком было написано:
Петру К.
«И Петр вышед вон и плакася горько». Полюбив, не отрекайтесь!
А. Б.
— Это она его с Петром-апостолом равняет, а себя, стало быть, с Иисусом? Однако амбиции! — фыркнул помощник пристава. — Уж не из-за этой ли особы и руки на себя студент наш наложил, а? Ага, вот и бюварчик, не зря ехали.
Раскрыв кожаную обложку, Иван Прокофьевич извлек один-единственный листок, написанный на уже знакомой Эрасту Петровичу голубой бумаге, однако на сей раз с нотариальной печатью и несколькими подписями внизу.
— Отлично, — удовлетворенно кивнул полицейский. — Отыскалась и духовная. Нуте-с, любопытно.
Документ он пробежал глазами в минуту, но Эрасту Петровичу эта минута с вечность показалась, а заглядывать через плечо он полагал ниже своего достоинства.
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Хорош подарочек троюродным! — воскликнул Иван Прокофьевич с непонятным злорадством. — Ай да Кокорин, всем нос утер. Это по-нашему, по-русски! Только уж непатриотично как-то. Вот и про «скотину» разъясняется.
Потеряв от нетерпения всякое представление о приличиях и чинопочитании, Эраст Петрович выхватил у старшего по званию листок и прочел следующее:
Духовная
Я, нижеподписавшийся Петр Александрович Кокорин, будучи в полном уме и совершенной памяти, при нижеследующих свидетелях объявляю мое завещание по поводу принадлежащего мне имущества.
Ознакомительная версия.