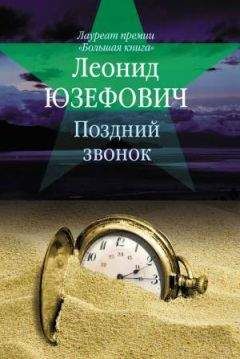Страх смерти есть всего лишь воспоминание о страхе рождения, об ужасе перехода в иной мир. Не знавший одного, не будет знать и другого, недаром шекспировский Макдуф, который из чрева матери был вырезан ножом, вырос храбрецом, каких мало. Когда все младенцы будут появляться на свет в результате аналогичной операции, наступит эпоха языка АО. Он станет незаменим для нового человечества, в чьей жизни главенствующую роль будут играть не мысли, а чувства. «Оно и видно», — откомментировал это заявление Даневич и ушел, хлопнув дверью. С тех пор Вагин его не встречал.
— Отнесешь в типографию, пусть вставят, — велел Свечников, отдавая ему исправленную во время разговора афишу.
В пробел между Мусульманским клубом и Домом Трудолюбия впилась красная карандашная стрелка. Она указывала, что именно сюда следует поместить сделанную на полях надпись:
Губернскийэсперанто-клуб «ЭСПЕРО». Праздничный концерт с участием известной петроградской певицы Зинаиды Казарозы (романсы на русском и эсперанто). Начало в 8. 30 вечера. Кунгурская ул., дом 16 (в помещении Стефановского училища). Вход бесплатный.
— Не получится. Первого июля Казароза выступает в гортеатре, — сказал Вагин.
Отвечено было:
— Читать умеешь? У них начало в семь, а у нас в половине девятого.
Все это время Осипов что-то строчил, склонившись над столом, но теперь обернул к ним свое изжелта-бледное лицо раскаявшегося абрека.
— Казароза будет петь в вашем клубе?
— Надо же! Перед войной она была очень популярна. В Петербурге по ней все с ума сходили.
— Ты ее слышал?
— Было дело.
— На какой пластинке?
— Что значит — на какой?
— То и значит. У нее несколько пластинок.
— У меня только одна.
— И что она там поет?
Осипов задумался, затем напел две строчки:
Быть может, родина ее на островах Таити.
Быть может, ей всегда-всегда всего пятнадцать лет.
— Это не она, — сказал Свечников. — У Казарозы нет пластинки с такой песней.
— Ты что, знаешь все ее пластинки?
— Да, по каталогу магазина Гольдштейна в Питере.
— И сколько их всего?
— Четыре, — на пальцах поднятой руки, как оратор, знающий цену энергичному жесту, показал Свечников. — Пластинки с такой песней у нее нет.
Ее убили неделю спустя, 1 июля. Возраст этой женщины для Вагина так и остался тайной. Теперь он был старше, чем она тогда, по меньшей мере вдвое, а если считать ее всегда-всегда пятнадцатилетней таитянкой с лотосовым венком избранницы в смоляных волосах, то впятеро. Любимцы богов умирают молодыми. Вагин давно перешагнул тот возрастной порог, за которым любая презираемая смолоду банальность сбрасывает с себя ветхие лохмотья слов и предстает в сияющей наготе вечной истины.
Глава вторая
СЕСТРА
2
Если бы Свечникова спросили, зачем он, восьмидесятилетний старик, недавно перенесший операцию на почках, два часа простоял в очереди за билетами на Казанском вокзале, а потом сутки трясся в душном вагоне, где не открывалось ни одно окно, он бы ничего толком не сумел объяснить. Всего-то и было коротенькое письмо от незнакомой учительницы с Урала — казенно-вежливые обороты, два-три полузнакомых имени, несколько вкрапленных в текст слов на эсперанто. От имени городских эсперантистов, которые решили обратиться к своим корням, эта Майя Антоновна просила его написать воспоминания о клубе «Эсперо».
Из ведомственного издательства ему иногда присылали на рецензирование мемуары, и он сочинял такие рецензии легко, с удовольствием, сам удивляясь точности собственной памяти. Писал и статьи для ведомственного журнала, но тут с самого начала ясно было, что ничего не выйдет. Целую неделю он уныло тыкал одним пальцем в клавиши машинки, потом бросил этот мартышкин труд, спустил его жалкие результаты в мусоропровод и сорвался. Даже дочь не предупредил, позвонил ей на работу уже с вокзала.
В поезде от духоты начался приступ астмы, и купировать его долго не удавалось, спал плохо, зато на следующий день еще в такси возникло пьянящее чувство, будто не сам он захотел сюда приехать, а привела судьба, которая движет им через его же собственные желания, как бывало в юности, а не вопреки им, как в последние годы. Свернули на Кунгурскую, и он сразу увидел ранящий сердце силуэт Стефановского училища.
Вокруг выросли белые двенадцатиэтажки с магазинами «Океан» и «Яблонька», но здание училища осталось прежним — тот же темно-красный неоштукатуренный кирпич, жестяные карнизы, зубчатые бордюры вдоль стен, портал парадного входа с ропетовской лепкой под дерево. Выходя из такси, он отметил, что уцелел даже встроенный в правое крыло восьмигранный шатер часовни Стефана Великопермского.
Отсюда улица круто уходила вверх, к желто-белой громаде Спасо-Преображенского собора с его исполинской уступчатой колокольней. Навершье креста на ней было той условной точкой, которой обозначался город на географических картах. Дальше не было уже ничего, кроме неба. За собором, с вершины самого высокого из семи, как считалось, городских холмов, берег круто обрывался к Каме.
Народный суд заседал в клубе водников «Отдых бурлака». Раньше это был ресторан «Гренада», его одноэтажное здание с широким, как у мечети, облезлым куполом и мавританскими окнами располагалось возле речного взвоза, в квартале от примыкавшего к кафедральному собору старого кладбища для именитых граждан.
Свечников прошел в зал и сел во втором ряду, с краю. С утра звонили из губкома, требовали срочно дать принципиальную статью с нелицеприятной оценкой этого учреждения, которое за последний месяц вынесло ряд неоправданно мягких приговоров.
Послеобеденное заседание уже началось, на эстрадном возвышении, где раньше заезжие Карменситы били в бубны и бряцали кастаньетами, за длинным столом сидели судья и двое народных заседателей. Чисто теоретически отсюда можно было вывести, что разбирается какое-то не слишком опасное для республики преступление. В серьезных случаях требовалось присутствие четырех заседателей, а в особо важных — шести, чего, впрочем на практике никогда не бывало.
Справа от судьи скучал незнакомый кавказец в чем-то полувоенном, слева нервно поигрывала пальцами Ида Лазаревна Левина, учительница из «Муравейника», тоже член правления клуба «Эсперо». На самом деле она была Ефимовна, Лазаревной стала из уважения к своему духовному отцу, создателю эсперанто Лазарю Заменгофу, хотя под конец жизни тот принял второе имя — Людвиг. Первое было оставлено для употребления в узком кругу. По слухам, на этом настояли его ближайшие сподвижники. Число адептов учения предполагалось расширить за счет тех, кого могло смутить еврейское происхождение учителя.
Прошлым летом, когда Свечников еще не разбирался в оттенках эспер-движения, Ида Лазаревна стала второй его наставницей после Сикорского. Она была старше, чем он, лет на пять, но казалась моложе. Пленительная походка, грива рыжих волос и доставшаяся от предков, поколениями не знавших физического труда под открытым небом, волнующе-белая кожа делали неотразимым каждый ее аргумент, превращали в музыку каждое слово. Он внимал ей с благоговейным трепетом, не подозревая, что она тяготеет к гомаранизму. Именно поэтому новички на её уроках в первую очередь заучивали те слова, каких нет и быть не может ни в одном языке, кроме эсперанто, ибо сами понятия, ими обозначаемые, лишь вместе с эсперанто и явились на свет. В августовскую жару сидели щека к щеке над учебником, ее до локтя голая, веснушчатая прохладная рука коснулась его руки, и он услышал произнесенное страстным полушепотом главное из всех этих не поддающихся точному переводу слов — гомарано. Как воздушный поцелуй, оно слетело с ее уст и растаяло, слишком нежное, чтобы приспособиться к чуждой стихии. Никакой другой язык не мог удержать его в своей грубой словесной ячее. Солнечный зайчик был ему братом, тополиная пушинка — сестрой. Одновременно, как во всяком символе веры, ощущалось в нем властное присутствие того, кто указал ей, Иде Лазаревне, путь к свету из окутавшей этот мир непроглядной мглы.