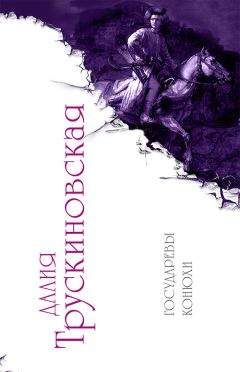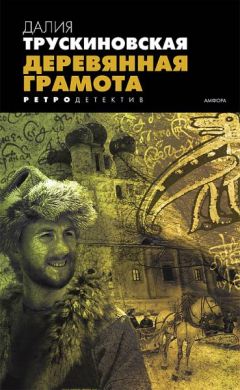— Всех не всех… Аксинью, стряпуху, знаю…
— Молодая баба?
— Молодая! — убежденно отвечал Пятка. — Моему старшему, Ваське, ровесница! В один год родились, как патриарх Филарет из польского плена вернулся.
Стенька возвел очи к потолку, соображая. Патриарх Филарет — это было нечто совсем давнее, и в те поры еще Стенькин дед, поди, молод был.
— А Васька мой, того гляди, старшую свою замуж отдаст, свахи так и вьются! — продолжал Пятка.
— Молодая, говоришь?.. Аксинья, кто еще?
— Еще ключница, Анна.
Стенька насторожился.
— Анна? А собой какова?
— Баба как баба, нешто я на них гляжу? Еще комнатные женщины, Марьица со Степанидой, еще девки дворовые, всех не упомнить…
— И давно эта Анна у вдовы в ключницах?
Если шалая Анюта всего-то навсего у вдовы в услужении, но по званию своему много чем в доме распоряжается, то и нет ничего удивительного в том, что ей порой удается безнаказанно полакомиться скоромненьким, подумал Стенька. Однако — Ильинишна…
— А недавно. Она и сама вдова. И мать у нее — вдова. Мать где-то у бояр живет, ее давно еще к боярышне мамой взяли, так и прижилась, и Анна та тоже при ней росла, пока замуж не выдали.
— Да что ты про мать, ты про дочь расскажи! — прервал Стенька.
— А что дочь? Коли она ночью и бегала, так я того не видывал! Сам же говорил — там калитка в переулок. Может, у нее с кем из морозовской дворни блудное дело, так что ж мне, избу свою на катки ставить да в переулок перевозить? Чтобы ту Анну за подол ловить? — Пятка, видать, вообразил это переволакивание избы живо и с подробностями, отчего и возмутился.
— Да твою избу и под мышкой унести можно! — отвечал, вылавливая со дна миски кусок мяса, Стенька. — Ладно тебе, дядя. А прозванье той Анны знаешь?
— По прозванью она, дай Бог памяти… Третьякова! Потому — дед у них был Третьяк Акундин, деда я помню.
Стенька постарался запомнить прозвание.
— Значит, до того, как ты решетку опустил, никто не пробегал? Ни мужик, ни баба? Ни сани не проезжали, ни каптана?
Каптана — это был намек на морозовский двор. Глеб Иванович не допустил бы, чтобы молодая жена ездила в простых санях. А вот ежели вторая боярыня Морозова, Анна, прибыла к невестке тайно, чтобы поколобродить, она-то и могла в неприметном возке об один конь заявиться.
Все-таки приятно было Стеньке думать, что на его красу и стать боярыня польстилась…
— Какая тебе каптана? В каптане боярыня только в Кремль выезжает, к государыне! Да на богомолье еще… — Пятка призадумался. — Погоди, молодец! А ведь бегала там ночью баба!
— Так что ж ты молчишь? — Стенька даже сронил с ложки обратно в миску груз капусты.
— Бегала, бегала! — убежденно твердил Пятка. — Я решетку-то поздно опустил! А вот выходил из избы, а как входил обратно — она и прошла. И точно — в переулок пошла!
— Поздно уж было? — подсказал Стенька.
— Да не рано, я ж говорю — уже решетку опускать подумывал. А потом, как решетку опускать шел, она и обратно проскочила, с мешком! Туда и обратно единым духом!
— С каким еще мешком?
— А мне откуда знать? Идет себе баба и идет, одна, никого не задевает, чего я к ней цепляться буду?
— Значит, на Бабичевой вдовы двор без мешка, а обратно — с мешком? — уточнил Стенька.
— Ну да-а…
— А теперь слушай меня, дядя. Той бабе там с мешком бегать не полагалось. И кабы решетка была опущена, она бы и не проскочила! — грозно сказал Стенька. — А что ты ночью решетку не опускал — это мне доподлинно известно! Я сам по этому делу хожу, розыск веду, и кабы ты решетку опустил — я бы первый об нее споткнулся! Понял, дядя? И теперь мне об этом нужно доложить подьячему Деревнину.
— Про решетку, что ли? — только это и понял из всех Стенькиных забот старенький Пятка.
— Ясное дело — про решетку! — И земский ярыжка, кинув ложку на стол, поднялся, как бы желая немедленно бежать в Кремль и орать на всю Ивановскую площадь про Пяткино злодеяние.
— Да погоди ты гневаться! — взмолился Пятка. — Я, может, за весь мясоед первый раз ее опустить забыл!
Стенька сел.
— Точно ли в первый?
— Точно, точно! — И Пятка для убедительности начал креститься, бормоча нечто вроде молитвы, но со странными словами: «…да чтоб мне сдохнуть без покаяния…»
Подводить под неприятности Пятку Стенька не хотел. Сейчас-то старик был человек служивый, жалованье получал, избенку имел, хоть и крошечную, однако с печкой. А как что — к кому он со всем своим скарбом переберется и на шею сядет?..
— Баба с мешком, говоришь? А велик ли мешок-то?
— Невелик, свет, невелик! Я потому и подумал, мало ли какие бабьи тряпки несет, или капусты кочан, или еще что?
— И куда побежала?
— А я откуда знаю? По Никитской, к Кремлю, а дальше уж ее бабье дело.
— Ночью, говоришь… А одета была как?
— Как баба зимой одета? Убрус белый, шапка теплая поверх убруса, шуба зеленым сукном крыта, сама дородная…
— Зеленым сукном — это хорошо! — одобрил Стенька. — Ну-ка, поднатужься, а могла ли это быть той Анны мать?
— Не могла! — убежденно отвечал Пятка. — Та бы, меня завидевши, остановилась словом перемолвиться. А эта — нет, проскочила мимо.
— А она точно тебя видела?
Пятка задумался.
— А кто ее знает…
Стенька хмыкнул. Пожалуй, следовало заехать с другого конца.
— Где те бояре живут, у кого Аннина мать в мамках служит — не знаешь?
— Откуда мне!
— Стало быть, потолковать она с тобой останавливалась? А о чем же толковали?
— Да что ты с той дурой Марьей ко мне привязался? Она меня про внука спрашивала, я ее про свою родню спрашивал, какая у Красного Звона живет! Самому-то мне туда идти-брести — день терять, с моей-то ногой.
— Так она у Красного Звона живет, что ли? — обрадовался Стенька.
— Этого я не говорил, — даже обиделся Пятка. — Где живет — не знаю, врать не стану, а что крестного моего племянники там живут, и брата Онуфрия вдова с детьми, это уж точно!
Стенька усмехнулся. Кое-что прояснилось — дура Марья в зеленой шубе, что живет где-то меж Варваркой и Ильинкой, неподалеку от храма святого Николы Чудотворца, который за славные колокола не так давно прозвали Красным Звоном — когда государь Алексей Михайлович, счастливо повоевав с Польшей, во многие города, и даже в Сибирь, послал взятые в плен иноземные колокола, именно этому храму, видать, лучшие достались.
— Помни мою доброту, Антипушка, — весомо сказал Стенька. — Я подьячему Деревнину про твое упущение сказывать не стану, а только про бабу с мешком. И ежели к тебе кто придет еще раз ту же сказку отбирать — на том и стой! Решетку, мол, закрыл, после того, как баба обратно пробежала. Понял?
— Как не понять!
— А теперь — за щи благодарствую. И идти мне надо. Оставайся с богом, дядя, доедай!
И с тем Стенька, пообедав на дармовщинку, выскочил из кабака.
Та, что прибегала ночью на бабичевский двор, унесла в мешке загадочную душегрею. Вот что понял Стенька из Пяткиного рассказа. Все совпадало: была душегрея — и нет ее, хоть весь дом обыщи!
А ведь Анюта какого-то княжича поминала, который якобы подослал его, Стеньку, за той душегреей, и была готова доказать, что душегрея им обоим примерещилась! Вот ведь до чего бабы лукавы!
Искренне радуясь тому, что не впутался в блуд с высокопоставленной боярыней, а всего лишь с ключницей, Стенька направился к Красному Звону. Путь был не близкий, и по дороге как раз случился Кремль.
А в Земском приказе меж тем появился странный челобитчик.
Он пришел ближе к обеду, когда и дьяки с подьячими, и писцы расходились по домам на часок-полтора. Поскольку после еды полагалось непременно вздремнуть, и человек, пренебрегающий послеобеденным сном, вызывал общее неодобрение, то даже самые яростные челобитчики, поняв, что время настало, уходили поесть.
Предвкушая не роскошную, но сытную трапезу, Деревнин трудился, не поднимая головы, и лишь привычное ухо отмечало — шум-гам притихает, стало быть, постылые челобитчики, они же — кормильцы-поильцы, убрались. Может, парочка еще осталась…
И тут он ощутил прикосновение к плечу.
— Давай челобитную, да поскорее, — дописывая последние на листе строки и не глядя на посетителя, сказал Деревнин.
— Я по иному делу, Гаврила Михайлыч.
Голос был знаком. Деревнин поднял голову и увидел Савельича, приказчика гостиной сотни купца Лукьяна Белянина.
Купец был человек уважаемый, Деревнин, бывало, с женой у него гащивал и у себя принимал. Так что посетитель заслуживал внимания.
— Выйдем-ка, — попросил приказчик.
И мудрый подьячий не стал допрашиваться, что за таинственность такая. Просто встал да и пошел на крыльцо, а Савельич — за ним.
Они отошли подальше от приказа и даже несколько спустились к Неглинной, чтобы уж точно лишние уши в ногах не путались.