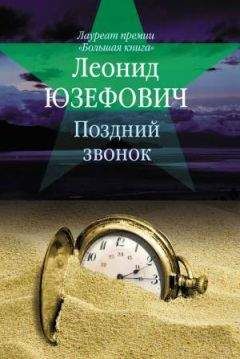— Вот-вот. Однажды Зиночка показала мне его письмо. Он, видите ли, принципиально не писал мягкий знак после шипящих на конце слова и от нее требовал того же. Почему-то для него это было важно. На Украине он боролся с этим мягким знаком, с немцами, с большевиками, еще с кем-то. Тут начал наступать Деникин, он пошел воевать с Деникиным, а с большевиками помирился. Когда Деникина разбили, большевики опять стали ему нехороши. Зиночка, конечно, с ним намучилась за все эти годы.
— Потому она с ним и рассталась?
— Нет, это вышло как-то само собой. После смерти Чики она оставила сцену, и Алферьев хотел втянуть ее в дела своей партии. Ему нужна была жена-соратница. Для такой роли Зиночка годилась меньше всего.
— Она его любила?
— Одно время — очень.
— А он ее?
— Как вам сказать… В той, прошлой жизни он в ней нуждался. Она его дополняла, смягчала его жесткость. Условности общежития играли тогда все-таки большую роль, чем сейчас. После революции у него отпала необходимость иметь при себе мягкий знак. Это ему только мешало. Понимаете?
Кивнув, Свечников достал билет с написанными на обороте стихами:
Я — женщина,
но вскройте мою душу —
она черна и холодна, как лед…
— Ее почерк? — спросил он.
— Да… Откуда это у вас?
— Выронила перед выступлением. Я подобрал, но отдать ей не успел, — сказал Свечников.
Не хотелось признаваться, что рылся в ее сумочке.
— Грустно, но точно, — прочитав, оценила Милашевская. — Именно в таком состоянии она и находилась все последние месяцы.
Вокруг все плаваю в табачном дыму. Осипов уже храпел мордой в стол, билетерша с видом победительницы сидела на коленях у директора театра. Бывший партизан рассказывал ей, как он поставил на место летчиков из авиаотряда при штабе 3-й армии.
— Я им говорю, — кричал он, сжимая в кулаке невидимую шашку, — вот чем добывается победа! А не вашей бензиновой вонью!
Аккомпаниаторша допытывалась у Сикорского, правда ли, что здесь можно дешево купить козью шерсть. Баритон восхищался шириной Камы.
— Почти как Нева! — говорил он. Ему отвечали:
— Шире! Шире!
— Да, вот еще что, — вспомнила Милашевская. — Позавчера Зиночка поехала к вам в клуб прямо из театра, и у нее была с собой сумочка. Я хорошо помню. Не знаете, где она?
— У Вагина, — сказал Свечников. — Это тот паренек, что сегодня был со мной.
— И как я могу ее получить?
— На что вам она?
— Так. На память.
— Вагин сейчас в редакции, а сумочка у него дома. Я скажу ему, чтобы он вам занес. Вечером вы будете у себя?
— Сегодня у меня концерт в гарнизонном клубе. Лучше я сама к нему зайду, когда освобожусь. Он далеко живет?
— Рядом. Давайте нарисую, — вызвался Свечников. Заканчивая чертеж, он заметил в дверях Даневича. Тот знаками показывал, что нужно поговорить.
— Я вчера велел Пороху подойти к Стефановскому училищу, — сообщил он, когда Свечников вышел к нему в коридор. — Он приходил?
— Да. А ты, почему не пришел?
— Не смог. Матери стало плохо с сердцем. Пришлось делать впрыскивание.
— Не ври.
— Честное слово! Я бегал за врачом.
Свечников толкнул Даневича в угол, ухватил за рубаху на груди и, подтянув ее к самому горлу, так что снизу она вылезла из штанов, спросил:
— Это ты в меня стрелял?
Тряхнул его и отпустил, увидев, что в коридор выходит Сикорский. Даневич бросился к нему:
— Иван Федорович, скажите, что вы у нас были вчера вечером!
— Да, — сказал Сикорский. — А в чем дело? Свечников молча прошел между ними и двинулся к выходу.
На лестнице пахло сбежавшим из чьей-то кастрюли молоком, пустынное фойе охранял фанерный гигант красноармеец с растянутым, как гармоника, зубастым ртом. Со штыка его винтовки гроздью свисали чучела колчаковских генералов: Пепеляев, Зиневич, Вержбицкий, Сахаров, Укко-Уговец.
Театральная площадь была залита солнцем, под ним уже выцвели афиши петроградской труппы. Романсеро Альгамбры, песни русских равнин.
Он отвязал Глобуса, сел в бричку, и когда из подъезда появился Сикорский, окликнул его:
— Иван Федорович! Подвезти вас?
— А вы куда?
— Не важно. Довезу, куда скажете.
— Мне на Вознесенскую.
— Прекрасно. Садитесь, — пригласил Свечников, берясь за вожжи.
При этом возникло непонятное и неприятное чувство, которое вот-вот, казалось, должно было дозреть до воспоминания о чем-то очень важном, но так и не дозрело, оставшись жить лишь в кончиках пальцев, пульсируя там вместе с кровью, мучительно-бессловесное, как забытый сон.
Выехали на Сибирскую, по ней двинулись вверх, в сторону Загородного сада.
— Случайно не знаете, — спросил Свечников, — откуда эти две строчки? Бабилоно, Бабилоно,алта диа доно!
— Знаю. Из «Поэмы Вавилонской башни» Печенега-Гайдовского.
— Того самого?
— Да, он пишет и стихи, и прозу. Плодовитый автор.
Глава тринадцатая
ГЛИНЯНАЯ ПТИЦА
22
Перед войной Свечников работал в Наркомвнешторге. В январе 1938 года ему позвонили на службу и вежливо, но настойчиво посоветовали выступить с речью на закрытии московского зсперанто-клуба «Салютон». Остальные столичные клубы к тому времени уже потихоньку закрылись, последователи доктора Заменгофа были не в чести, и Свечников не очень-то распространялся о своем прошлом, но там, где о людях его ранга положено было знать все, знали и об этом. Отказаться было нельзя, однако принародно бить себя в грудь, каяться и посыпать голову пеплом, как поступали многие, тоже не следовало. Такие люди исчезали сразу после покаяния, и тем скорее, чем оно было более искренним.
Собрались в доме культуры кожевенной фабрики. От имени старых эсперантистов Свечников по бумаге прочел свою речь, жестоко отредактированную женой. Смысл ее сводился к тому, что со времен революции отношение партии к международному языку никаких изменений не претерпело, и если раньше эсперанто-клубы поддерживались, а теперь закрываются, значит, изменились они сами, а не партийная линия, которая в течение этих двадцати лет всегда была одна и та же. Просто нужно иметь мужество это признать.
Последние могикане эспер-движения сидели тихо как мыши, лишь в первом ряду немолодая полная женщина плакала, прикрыв лицо платком. Потом она подняла голову, и Свечников узнал Иду Лазаревну. Когда он, закончив, спустился в зал, ее там уже не было.
— Мы взяли шефство над ее могилой, — похвалилась Майя Антоновна, принимая папку с воспоминаниями о ней.
Как было условлено, без пяти шесть они встретились в школьном вестибюле.
— Ее похоронили на Егошихинском кладбище? — спросил Свечников.
— Ну что вы! Там уже лет пятнадцать никого не хоронят.
— А где теперь хоронят?
— У нас есть два больших новых кладбища, — помогая ему раздеться, ответила Майя Антоновна с той же интонацией, с какой вчера говорила об открытии самого большого на Урале автомобильного моста через Каму, — Северное и Южное. Иду Лазаревну похоронили на Южном. Оно лучше.
— Чем?
— Ближе… Идемте, нас ждут.
Роман «Рука Судьбы, или Смерть зеленым!» Свечников прочел на эсперанто еще зимой, половину не понял, но и половины хватило, чтобы оценить это произведение по достоинству. В нем рассказывалось, как крайне правые националисты из разных стран, в том числе недобитые русские черносотенцы, решили временно забыть о своих разногласиях во имя борьбы с общим врагом и объединились в тайную международную организацию под названием Рука Судьбы. Их целью стало физическое истребление всех эсперантистов, которых они называли зелеными. Победить врага словом, в честной дискуссии, заговорщики не рассчитывали. Поначалу, правда, они надеялись разложить эспер-движение изнутри, прибегнув к услугам своих платных наймитов — сторонников идо и нею, но ставка на раскольников не оправдала себя, простые эсперантисты с презрением отвернулись от них и остались верны заветам доктора Заменгофа, изложенным в «Фундаменте де эсперанто». Тогда, трезво сознавая, что их реакционные идеи бессильны противостоять получившим всемирное признание прогрессивным идеям эсперантизма, заговорщики прибегли к оружию слабых — террору. Они выслеживали самых верных учеников Ла Майстро, убивали их, отсекали у трупа кисть правой руки, а затем, собравшись ночью в заброшенной часовне на кладбище, покрывали церковный аналой куском черного бархата, возлагали на него отрубленную руку очередной жертвы и совершали над ней свои мрачные ритуалы, торжественно обещая друг другу не останавливаться на достигнутом.