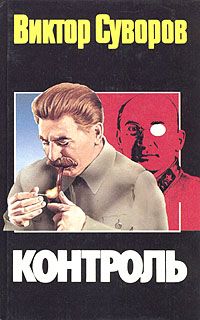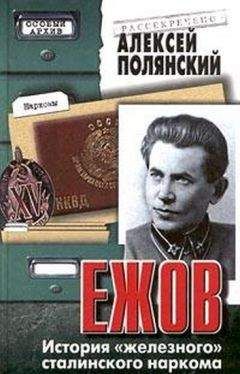Ознакомительная версия.
Тепловоз «Главспецремстрой» подтянул пять тюремных вагонов. В каждом вагоне – три купе для охраны, одно купе – карцер, шесть купе для врагов народа. В каждом купе – по двенадцать. В вагоне – семьдесят два. В пяти вагонах – триста шестьдесят. Кое-где с перебором заполнены. Да по карцерам злостные враги. Одним словом, четыреста пятьдесят четыре. И восемь человек – ставших на путь исправления, которым на сборе сапог работать и в яме на раскладке тел. Их не поездом, их воронком подвезли. Из Таганки. Их тоже к концу работы – того. Так что – четыреста шестьдесят шесть[1].
Набирают наши пятилетки темп. Во всем у нас улучшения. В расстрельном деле – в первую очередь. Совсем недавно, три месяца назад, гоняли по лесу расстрельные партии. А теперь не надо гонять. Моторизация упрощает процесс исполнения. Прислали Холованову для таких дел автобус ЗИМ – Завод имени Молотова. Хороший автобус. Краской свежей блестит, краской свежей пахнет. Нижняя часть – синяя. Верхняя – голубая. Эстетика. Гармония. Загляденье.
Вход у автобуса сзади. Подгоняй его прямо вплотную к двери вагона, открывай одно купе, высаживай врагов в автобус, открывай второе купе, загружай и вези к шкафам. Чтоб туда-сюда не мотаться.
По шкафам разберись!
Вязателям, круче брать! Так им руки проволокой скручивать, чтоб и стрелять не надо. Чтоб от боли выли!
Стоит Холованов на бугре. В улыбке зубы выскалил. Такая улыбка у собак конвойных бывает. Сапог на пне. Целуйте, сучьи дети! Целуйте.
Целуют.
Холованов целующих легонько кончиком сапога в челюсть тычет: у-у псина… С презрением мягким.
Товарищи ежовцы, ваше время ответ держать.
Покорно ежовцы на расстрел идут. С выбитыми зубами, с изорванными лицами, с расплющенными пальцами. Прыгают ежовцы из автобуса, на солнышко щурятся, улыбаются, отвыкли от солнышка, спешат: только бы скорее, только бы расстрел не отменили. Многим и не верится, что до смерти дожили. Весна по лесу бушует, а они за три месяца забыли, что бывает весна. Они забыли, что бывает день и солнечный свет. Они забыли свои имена. Они помнят только о том, что бывает в жизни смерть. Смерть, которая дарит покой. Смерть избавляющая. Смерть желанная и недостижимая, как мечта. О ней они мечтали в людоедских подвалах. И сейчас в сладкой надежде на быструю и легкую смерть они, расталкивая друг друга, спешат.
К яме.
7
Устали все. Измотались.
Расстрел – дело утомительное.
Некто в сером в кустах стенгазету завершает. «Сталинский стрелок» газета называется: «…уставшие, но довольные…»
Некто в сером писателем стать мечтает. Талант в нем литературный пробуждается, как вулкан Кракатау. Чем товарищ Сталин не шутит: посоветуется с товарищами, да и назначит великим писателем. Классиком социалистического реализма.
А пока – муки творчества. Надо расстрел описать в стенгазете, но чтоб своим ясно было, о чем речь, а посторонним – неясно: «Подразделению, в котором служит товарищ Ширманов, руководство доверило исполнение…»
А работа и вправду не из легких. Кажется, что за проблема – четыреста человек в трупы превратить. А вот вы попробуйте. Одних операций сопутствующих сколько.
Еще в конце вставших на путь исправления перестрелять. С ними беда. Они-то жить хотят. Они – визжать. Они – брыкаться. Они исхода такого не ждали.
Но постреляли и их.
Тут и легла на шею Жар-птицы петля из гитарной струны. На шею сзади набросили и затянули. Знают – самбистка. Так чтоб без фокусов.
Хватает Жар-птица воздух ртом, хватает руками струну, да не хватается струна. И огромный кулак Холованова дробящим ударом сокрушил ее. Повисла Настя на кулаке. Ухватил Ширманов Настю за волосы, и пошел Холованов кулаками молотить, словно куклу тряпочную.
И не сразу боль приходит. Бьет Холованов, отлетает ее лицо то вправо, то влево. Бьет Холованов, а Ширманов-холуй струну затягивает, чтоб не трепыхалась Настя.
Бросили в мокрый песок то, что Настей звалось. Холованов за волосы голову ее поднял:
– Вспомни, девочка, что за тобою числится. За одного вертухая вышак ломится. А ты сколько в эшелоне перестреляла? И эшелон блатных на волю выпустила. Согласен, ради спасения власти советской. Но кто сказал, что власть благодарностью платит за служение ей? Запомни до смерти – власть всегда неблагодарна. Ты услугу власти оказала. Но чего стоит услуга, которая уже оказана? Она не стоит ничего. Наоборот, девочка, ты слишком много знаешь, потому опасна. Вот почему власть освобождается от тебя. Закон старый: уйди в смерть, но сломись, уходя. Я тебе подарю легкую. Я добрый. Ты меня знаешь. До свидания. Встретимся в аду. В рай нас с тобой, Жар-птица, не примут. А теперь… теперь целуй мой сапог.
Открыла глаза.
Весь мир перед нею белый.
Что это?
Это белый потолок.
Пахнет госпиталем.
Ей хорошо. Так хорошо, что надо рассказать об этом всем, всем, всем. Слов не получилось. Получился вздох. Получился неясный звук. Как обрывок песни из вагонного окна.
И тихонько пошли воспоминания: парашютная секция, прыжки, сталинская дача, «Главспецремстрой», монастырь в бесконечном лесу, «Сталинский маршрут», Александровский мост, расстрелы, расстрелы, снова «Главспецремстрой» и снова расстрелы, и ее собственный расстрел. Странно. Где же это она? Голову не повернуть. Забинтована голова. А глаза могут смотреть прямо вперед – и видят потолок. А если поднять глаза выше, то виден не только потолок, но и стена, которая позади нее. Цвет? Сразу не скажешь, какой цвет. Цвет мягкий. Цвет усыпляющий. И радостный. Вправо – тоже стена. Тоже радостного цвета. Влево – цветы. Много цветов.
Гладиолусы. Всех цветов сразу. Где ранней весной в Москве можно достать гладиолусы? В оранжереях цветочного хозяйства Кремля. А если вниз глаза опустить, то видна белая простыня. Простыню не только видно. Ее можно ощутить на запах и на вкус. Простыня чуть хрустит от прикосновения губ, а пахнет морем. Чуть пахнет горячим утюгом. Но запах утюга не победил запаха моря.
Если дальше смотреть – видно одеяло верблюжьей шерсти. Узор затейливый. Цвета яркие. Дальше – спинка кровати.
Больше смотреть нет сил. Лучше закрыть глаза. Хочется пить. Спокойно и тихо произнесла: «пить». Может, не произнесла, а только губами слово обозначила. Но поняли ее.
Губ коснулась трубочка. Ей всего один глоток. Вода невыразимого вкуса. Как на сталинской даче. Глаза закрыты, но она уже не спит. Она снова видит сосновые корни в белом песке расстрельной ямы. Она помнит запах. Запах ямы. Запах теплых трупов. Почему тут нет запаха теплых трупов? Почему тут другие запахи? Как лисенок в непонятной ситуации, она тревожно принюхалась. Где же это? Открыла глаза. Потолок. Уже знакомый. Теперь – глаза вверх, вроде как запрокинув голову назад. Там должна быть стена. Правильно, стена. И вправо должна быть стена. Так оно и есть. А слева – цветы. Именно так – слева цветы. Глаза вниз – простыня, одеяло, спинка кровати. Рядом – лицо милосердной сестры. И стакан с трубочкой. Коммунисты обозвали сестру милосердия медицинской сестрой. Какая пошлость: медицинская сестра. А ведь как нежно звучало раньше: сестра милосердия. И почему Настя не стала сестрой милосердия? Как красиво: серое длинное платье, белый передник и большой красный крест на груди. И раненый в бою ротмистр Лейб-гвардии Кирасирского полка… Ранен в голову… Настя осторожно бинтует голову… Вообще-то у нее самой голова почему-то забинтована. Это не кирасирский ротмистр, а она сама лежит в постели. Это над нею склонилась сестра милосердия и улыбается чуть заметной улыбкой. Улыбается и уходит, тихо затворив дверь. У двери – кресло на колесиках. В кресле – Холованов. В больничной пижаме. Интересное сочетание: дракон в пижаме. Нога в гипсе. У дракона поломалась нога. Дракон на поломанной ноге. Меньше по лесам гулять надо, товарищ Дракон, тогда нога не поломается.
У кресла – два костыля. Дракон улыбается.
– Здравствуй, Жар-птица.
– Здравствуй, Дракон, – шепнула совсем тихо.
– Как ты спала?
Она только закрыла глаза, показывая, что спала хорошо.
– Это я тебя расстреливал. Ты мне ногу поломала, а стрелять тебя все равно надо. Никому из своих ребят я этого не доверил: надо было так возле твоего виска стрельнуть, чтоб полное впечатление расстрела было, но чтоб слуховые нервы тебе не повредить. Тебя над ямой согнули, а меня ребята подхватили на руки, поднесли, я и стрельнул. Ты сознание потеряла. И в яму кувыркнулась. Так почти со всеми бывает, кому туфтовый расстрел устраивают. Благо, не высоко падать и мягко в яме. Профессора Перзеева мы в кустах держали. Он тебя сразу усыпил. И потом тебя кололи. Чтобы все плохое ушло во сне. Ты долго спала. Много дней. Мы все боялись, что твоя странная болезнь вернется. С обострением чувств. Не вернулась.
Она слабо улыбнулась.
– Хорошо ты меня, Жар-птица, за ногу. Теперь я как зайчик буду прыгать по коридорам. Не знаю, когда снова к летной работе допустят. Там, на расстреле, все боялся, что от боли не смогу стрельнуть правильно. Уже тут, в госпитале, ты спала, а профессор Перзеев камертончиками возле твоих ушей все звенел. Проверял, реагируешь ли. Успокоил: реагируешь. Ты же хорошо меня слышишь?
Ознакомительная версия.