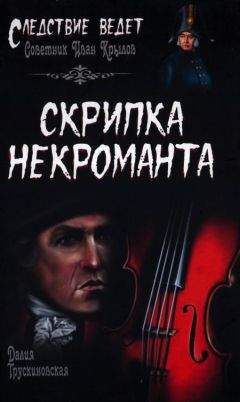Ознакомительная версия.
— Варвара Васильевна! — Тараторка соскочила с табурета и опустилась на корточки у княгининых колен. — Да я его прошу, прошу!..
И они на два голоса устроили бедному драматургу основательную выволочку. Спас его Паррот, принеся бумагу и чернильницу с пером.
— Осмелюсь предложить вашему сиятельству кофей, печенье и конфекты, — сказал он по-французски. — Кофей у нас отменный, если вам угодно вспомнить. И как раз только что сварен.
— Мы сейчас спустимся, — обещала княгиня и принялась писать. А когда Паррот вышел, сказала Тараторке:
— Вот, Машутка, был бы тебе славный жених, кабы не немец. Брискорну цена невелика, а сей — хорош, и глаза славные такие, черные, ясные.
— Сей? — искренне удивилась Тараторка. — А я и не приметила…
— На, снеси записку, вели Степану бежать к замку.
И, когда Тараторка выскочила, княгиня сказала Маликульмульку:
— Неужто и я была такова? В пятнадцать девок уже замуж сговаривают, а с ней как быть? Дитя! Нет, я, пожалуй, еще простодушней была, пока дядюшка покойный меня в столицу с сестрами не вызвал да в Смольный не определил. Машу я хоть сразу взялась и языкам учить, и словесности, и рисованию…
Варвара Васильевна вздохнула — вспомнилось былое. И отвернулась к окошку, и долго глядела на белые папоротники, наведенные морозом. Маликульмульк не смел и слова молвить. Он смотрел на рыжий затылок с собранными в греческий низкий узел густыми волосами, чуть потускневшими, но все еще пышными, и думал о том, что любовь и философия все же, наверно, несовместимы.
Глава 7. Итальянцы и итальянки
Налет княгини на «Лондон» был стремителен и яростен. Старый Манчини, разумеется, не хотел отдавать Никколо, но с супругой генерал-губернатора Лифляндии спорить опасно — помня, что рассказал Маликульмульк о старом хитреце, она изругала его по-французски и даже замахнулась. Двое солдат вошли в спальню и стали заворачивать мальчика в одеяла. Он с перепугу закричал.
Положение спасла Аннунциата, которая несла из своей комнаты свежий травяной отвар. Она кинулась к Никколо и стала его успокаивать по-итальянски. Тем временем Маликульмульк тихонько посоветовал старому Манчини не валять дурака и смириться со своей участью.
— Дитя все равно обречено. Скрипка выпила его жизнь. И дитя умрет среди чужих, а я, родной отец, буду глядеть издали на окна, за которыми мой бедный сынок, — жалобно сказал итальянец по-немецки. Он был безмерно трогателен, но жесткие слова, которые сказал Паррот по поводу цензора Туманского, из головы Маликульмульковой еще не выветрились. Доверчивость тоже должна иметь пределы.
Когда Никколо, сопровождаемого громогласными причитаниями и благословениями старика, снесли вниз и стали устраивать в карете, к Маликульмульку подошла Аннунциата, взяла его под руку и увлекла вдаль по коридору. Сопротивляться было бы смешно, и он лишь испуганно обернулся — не видит ли их княгиня? Но княгиня уже спускалась по лестнице.
— Я готова целовать руки ее сиятельства] — пылко сказала певица. — Теперь я спокойна за мальчика и могу уезжать. Ее сиятельство — такая дама, что не даст Никколо в обиду. О, как бы я хотела остаться в Риге…
— Поезжайте скорее вместе с синьорой Бенцони, — ответил Маликульмульк. — Поверьте, так будет лучше. Я знаю, что такое проводы и разлука…
И вдруг, неожиданно для себя, предложил:
— Хотите, я вам песенку спою?
Петь ему и в молодости приходилось редко, хотя голос он имел верный. Но он сам себе казался нелепым — с голубками и пастушками, розами и амурами, вылетающими из уст. Кроме песенок, что поют в гостиных или на сцене, были еще фривольные — так те он и вовсе ненавидел.
Песня в его жизни была одна — сам написал, сам на музыку положил. И, так уж вышло, мурлыкать — мурлыкал, но ни разу не пропел.
— О чем? — живо спросила Аннунциата.
— О разлуке по-русски… хотите?..
— Да…
Они вошли в знакомую комнату, в походный уют блуждающих по Европе женщин, которых судьба наказала дивными голосами, встали у окна, и Маликульмульк тихонько запел:
— Уже близка минута
Разлуки моея;
Прости, прости, Анюта,
Уж скоро еду я.
Расставшися с тобою,
Расстанусь я с душою;
А ты, мой друг, кто знает,
Ты вспомнишь ли меня.
Позволь мне в утешенье
Хоть песенкою сей
Открыть мое мученье
И скорбь души моей.
Пусть за меня в разлуке
Она напомнит муки, —
А ты, мой друг, кто знает,
Ты вспомнишь ли меня.
Моря переплывая,
Меж камней, между гор,
Тебя лишь, дорогая,
Искать мой станет взор.
С кем встречусь, лишь одною
Займу его тобою;
А ты, мой друг, кто знает,
Ты вспомнишь ли меня…
Там были и другие куплеты, но он почувствовал, что и этих довольно. Голос сам угас, растаял, возвращаться не желал.
— Вы очень любили ее? — спросила Аннунциата.
И верно, подумал Маликульмульк, не обязательно знать русский язык, чтобы понять.
— Очень, — ответил он. — Но ничего не получилось.
— Да… и у меня ничего не получилось… я сразу, как увидела его, поняла… но это уже неважно… — Аннунциата опустила синие глаза, потом опять подняла. — Вы скажите ему, что я бы могла стать хорошей женой, прошу вас…
— Но ведь вы уезжаете?..
— Да…
Тут только Маликульмульк заметил Дораличе Бенцони, стоявшую в дверях спальни.
— Княгиня — прекрасная женщина, — сказала Дораличе. — Если бы мы оказались в одной семье, то и трех дней бы не прожили мирно — вцепились бы друг дружке в волосы. Но она отличная женщина, она умеет разрубать узлы. Собирайся, голубка. Мои вещи уже давно уложены. Завтра на рассвете едем прочь.
— Позвольте пожелать вам счастливого пути и удачи, — ответил на это Маликульмульк.
— Мы никогда больше не встретимся, господин Крылов. Вот и от меня прощальное пожелание — скорее женитесь. Вам нужна жена — такая, как я или княгиня.
— А если такая не сыщется?
— А другая вам ни к чему. С другой ничего не выйдет. Прощайте.
Он поцеловал руку Аннунциате (целовать руку Дораличе казалось ему сущей нелепостью) и вышел. Забот впереди было множество.
К немалому его удивлению, княгиня, не дождавшись его, укатила. У дверей стоял Джузеппе Манчини, несчастный и жалкий, тяжелая шуба — внакидку, шапка — в руке, длинные волосы, почти седые, прозрачными прядями свисают на плечи.
— Его увезли, увезли моего мальчика, — сказал старик. — Что мне теперь делать? Оставаться в Риге? Ждать? Скажите, любезный синьор, что мне делать? Я не знаю…
— И я не знаю, — ответил Маликульмульк совсем нелюбезно.
И тут Манчини, сохраняя скорбный и похоронный вид, выразился по-итальянски весьма скабрезно и пакостно. Если не понимать языка — полное ощущение того, что он просит у вышних сил незаслуженной милости.
Маликульмульк таких выражений ни в котором языке не любил, да ему и притворяться осточертело.
— Выбирайте, синьор, слова, — сказал он по-итальянски. — Клянусь Мадонной, слушать вас — гадко.
И пошел прочь — по Известковой в сторону реки, еще не решив, куда ему надо: в Рижский замок, в апартаменты княгини или же в аптеку Слона.
Ему очень не хотелось получить от Паррота какое-нибудь еще нравоучение.
Будь это в Санкт-Петербурге с его долгими улицами — то вряд ли Маликульмульк оказался бы в аптеке. Но рижские улицы коротки — не успел он в голове своей сравнить возможности, которая из них хуже, и понять, что обе — хуже, по определению князя Голицына — натуральный цугцванг, — обнаружил, что проскочил поворот на Сарайную и почти вылетел на Ратушную площадь. А там, повернувши направо, в сотне шагов — аптека Слона. Значит, сам Бог велел.
Гринделя и Паррота Маликульмульк обнаружил в лаборатории — как всегда, за работой. Рядом с ними сидел младший из учеников и чистил очередную порцию картофеля.
— Ну как, отвезли мальчика в замок? — спросил Гриндель, держа на весу изящные аптекарские весы.
— Отвезли… Обе итальянки завтра на рассвете уезжают. И вот я думаю — может быть, мне еще раз встретиться с ними и с певцами? Вдруг кто-то заметил, как старик Манчини или покойный Баретти подал знак Брискорну. Вряд ли они роняли платочек, как светские дамы, или пустили в ход махательную азбуку…
— Какую??
Маликульмульк понял, что перемудрил с переводом. В русском языке слово «махаться» имелось — означало оно ухаживание кавалера за дамой или дамы за кавалером, а происходило от знаков, подаваемых веером, раскрытым или сложенным, коснувшимся лба, виска или носа. В немецком явно было что-то другое, и он объяснил приятелям свою оплошность.
— Нет, отдельного слова еще не придумано, хотя для нужд щеголей и кокеток приспособлено французское «строить куры», — объяснил Давид Иероним. — Скорее всего, Брискорн просто подошел к старому Манчини, а тот или кивнул, или подмигнул. Во всяком случае, если бы нашелся кто-то, кто видел их рядом, было бы неплохо.
Ознакомительная версия.