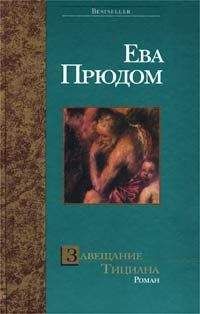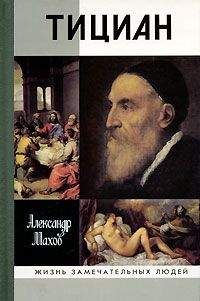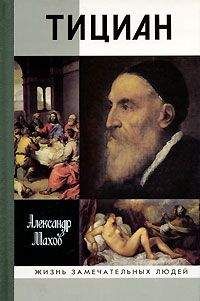Теперь Тинторетта знала наверняка: Атаку убила Олимпия. Вернувшись после ухода гостей, она привязала египтянку красными бантами к кровати и мучила, требуя указать тайник с письмом Фламеля. Да, она и впрямь знала толк в искусстве приканчивать себе подобных. Удалось ли ей выведать что-нибудь у Атики? Узнала ли она тогда же или позже, что рукопись у Тициана? После смерти маэстро она обшарила его мастерскую, но ничего не нашла. И, видно, решила ждать, когда кто-нибудь другой сделает это, а уж она завладеет документом в подходящий момент. Она умела ждать. Она ждала долго. Как паук, следила за своими соперниками и за тем, как они, словно мухи, подыхают один за другим: Зорзи Бонфили, Жоао эль Рибейра, Кара Мустафа и Лионелло Зен. Последнего она любила, но не так горячо, как Изумрудную скрижаль. Паучиха плела свою паутину, а бабочка угодила в нее и обломала свои крылышки. И вот теперь паучиха тащила свою жертву в гнездо на лестницу Улитки, которую надо было бы в этот день, 23 сентября 1577 года, окрестить лестницей Паука. Вообще же лестница получила название благодаря своей винтообразной форме. Она была заключена в круглую башню, прилегающую ко дворцу, выстроенному сразу в двух стилях: готическом и Возрождения. В здании было пять этажей, на каждом этаже имелась лоджия с колоннами и сводчатыми арками. Лоджии сообщались между собой с помощью спиралеобразной лестницы. Мариетта с приставленным к спине кинжалом вступила на первый марш. Одной рукой она ощупала апельсин и с ужасом убедилась, что бутонов гвоздики на нем больше не осталось.
Вне всяких сомнений, это была она, его возлюбленная, там, на лоджии последнего этажа дворца Контарини дель Боволо. А рядом с ней куртизанка Олимпия. А между ними кинжал, приставленный к самому сердцу Тинторетты. А он-то думал, это всего лишь любовная игра: один удирает, другой догоняет. На самом деле это был зов о помощи. Виргилий похолодел. Вмешаться! Но как? Стоит ему начать подниматься по лестнице, куртизанка засечет его и бог знает что может сотворить с его белокурой девочкой. Но что же делать? Что делать? Взобраться по лестнице, топтаться на месте — одно глупее другого. «Если бы только дать знать Мариетте, что я здесь!» И тут его осенило. Он отошел в тень и стал насвистывать мелодию, которую Тинторетта однажды исполнила для него на шпинете[119]. Она услышала! Бросив взгляд вниз, она заметила любимый силуэт. И тут же отвела глаза: ее похитительница ни в коем случае не должна была догадаться о присутствии Виргилия. И в то же время нужно было показать ему, что она его видит. Олимпия задала ей вопрос. Она молчала, соображая, что бы такое сбросить вниз. Куртизанка повторила вопрос. На этот раз она отвечала с самым невинным видом:
— Простите?
И тут она вспомнила об апельсине. Невпопад отвечая на вопросы Олимпии, она медленно вынула его из кармана и разжала пальцы. Он мягко плюхнулся на пол лоджии. Мариетга затаила дыхание. Ее врагиня ничего не заметила. Тогда она легонько наподдала пяткой, апельсин беззвучно покатился к краю лоджии и, не встретив никакой преграды, полетел вниз.
С ловкостью, которой он сам от себя не ожидал, Виргилий поймал его. «Она меня заметила. — Искра зажглась в его глазах. — И сама подсказала способ помочь ей». В следующую минуту самый необычный из диалогов завязался между двумя молодыми людьми, которых отделяло друг от друга пять этажей. Размахнувшись, Виргилий изо всех сил послал апельсин вверх. Тот, словно маленький снаряд, снес цветочный горшок с балюстрады лоджии. Шум и грохот, сопровождавшие этот бросок, заставили Олимпию вздрогнуть. Она на мгновение отвернулась от своей жертвы, чтобы понять, что происходит. Этого-то и нужно было Мариетте: она выставила ногу вперед, оттолкнула куртизанку в сторону и бросилась к лестнице. Олимпия тут же бросилась вдогон, потрясая кинжалом. Мариетга опережала ее не больше чем на два десятка ступеней. Отчаяние, страх гнали ее вниз. За своей спиной она слышала дыхание преследовательницы, шорох ее юбок, стук ее каблуков. Вот когда она по-настоящему оценила преимущества мужского платья, но даже не могла представить себе, насколько правильно поступила, одевшись не в женский наряд. За спиной послышался звук рвущейся материи и приглушенный вскрик. Олимпия запуталась в юбках и полетела головой вниз. Мариетга интуитивно посторонилась, вжалась в стену и этим спасла свою жизнь. Мимо нее по лестнице прокатился шар из юбок, кружев, рук, головы, ног, едва не увлекший и ее за собой. За ним стелился кровавый след. Тинторетта поднесла руку ко рту и устремилась вниз, к следующей лестничной площадке. Там лежала бездыханная Олимпия с переломанными членами, обезображенным лицом, разбитой головой. По площадке растекалась кровь. Такая же розоватая, как и маленький камешек, выпавший из ее фижм.
22 декабря 1577 года был днем особенным: им предстояло либо вознестись к самым высотам алхимии, либо остаться ни с чем. Накануне этого дня незадолго до полуночи в доме Тинторетто ожидался сбор всех участников поисков Изумрудной скрижали. Луна лила свой бледный свет на Мавританскую набережную, когда друзья ступили на нее. Подходя к дому художника, Предом поднял глаза и у окна заметил свою любимую. В светлом платье с пышными рукавами, со вставкой из кисеи на груди; волосы расчесаны на прямой пробор и аккуратно уложены. В одной руке партитура, другая лежит на шпинете. Мечтательная, слегка грустная. С ямочкой на подбородке, сегодня как-то особенно заметной.
Вероятно, все ее думы были о том, что, как бы ни сложился завтрашний из ряда вон выходящий день, послезавтра ее ждет расставание с любимым. При виде Мариетты сердце Виргилия сжалось. У него появилось ощущение, что он вновь увидел ее такой, какой она была в тот первый раз под сводами церкви Францисканцев в день похорон Тициана. Исходящая от нее печаль потрясла его. Он остановился, Пьер последовал его примеру. Он, не двигаясь, с волнением смотрел на нее. Затем позвал: ему хотелось всколыхнуть пелену, заполнившую ее душу безотчетной грустью, подбодрить, заставить улыбнуться улыбкой прежних беззаботных дней. Но она не ответила на его зов, даже не моргнула. Одна рука на партитуре, другая на шпинете, она оставалась неподвижной.
— Мариетта! — вновь позвал он чуть громче, вздыхая. Все та же странная и слегка тревожащая неподвижность.
— Мариетта!
В четвертый раз он набрал побольше воздуха в грудь, не заботясь о том, что может разбудить весь дом.
— Мариетта!
Тут уж и Пьер не выдержал, и они в силу двух легких закричали что было мочи:
— Мариетта!
Никакого отклика. Они задергались. Тут к ним подошел Пальма.
— Спит она, что ли, с открытыми глазами и стоя? — спросил Пальма. — Если только…
Он не закончил фразу. Оставив Пьера и Виргилия, Пальма сделал несколько шагов и остановился под самым окном. Затем раздался его смех. Парижане, недоумевая, следили за ним. Пальма обернулся к ним.
— Это не Мариетта, — выдавил он сквозь смех. — Это ее автопортрет[120]. Она выставила его для просушивания.
В эту минуту в двери появилась сама Мариетта. Она приветствовала всех и подошла к Виргилию. На сей раз окаменел он. Только взгляд его переходил с автопортрета на Пальму, а с Пальмы на автопортрет. Мариетта положила руку на рукав своего чичисбея.
— Виргилио?
Он вздрогнул, словно вернулся к живым из потустороннего странствия. Лицо его приняло мертвенный оттенок каррарского мрамора.
— Пальма, — обратился он к художнику, — вечером 7 августа 1574 года, когда ты проплывал в гондоле мимо Бири-Гранде и заметил у окна маэстро, ты стал жертвой обманки, как только что я. То, что предстало твоим очам, было автопортретом Тициана!
Это открытие поразило всех как громом. Никто не двигался, тишина была такая, что слышалось журчание воды в канале. Каждый взвешивал последствия подобного утверждения. Пьер первым поднес руку ко рту, чтобы помешать себе произнести вслух то, что было на языке у всех:
— Это значит, что…
Изумление, испуг отразились на его лице. Виргилий догадывался, какие слова не были произнесены другом.
— Вот именно. Это означает, что убийца Атики не кто иной, как Тициан Вечеллио.
— Думаю, есть человек, могущий подтвердить чудовищное обвинение, которое я только что произнес.
С этими словами Виргилий бросился бежать по ночной Венеции к дому неведомого свидетеля. Друзья — за ним. Вдоль набережных, через мосты, огибая памятники и церкви, утопающие в клубах тумана… Школа братства Милосердия слева, Ка д'Оро справа чуть впереди, церковь Святых Апостолов перед ними.
— Фаустино?
— Ну да, Фаустино! — Предом остановился перевести дух. — Он был свидетелем убийства. И я недалек от мысли, что Тициан об этом догадывался. Вспомните ребенка-силена на картине. Это карлик, он смотрит зрителю прямо в глаза. На самом же деле не сводит взгляда с художника. Какие же мы болваны, что позабыли о присутствии еще кого-то на полотне, а именно главного лица, того, кому полотно возвращает его взгляд — самого Тициана! — Он двинулся дальше. — Фаустино лишь наполовину признался нам. В тот вечер он и впрямь занемог и остался лежать на своем тюфяке. Однако вместо того чтобы усыпить его, болезнь скорее всего не давала ему уснуть, и в половине двенадцатого он не только услышал, что кто-то вернулся, но и узнал голос вернувшегося. Он наблюдал за всем происходящим, не имея возможности вмешаться, обессиленный лихорадкой. Он слышал, как Тициан связал Атику, как расспрашивал ее о тайнике, как мучил до тех пор, пока не добился правды. Под невыносимой пыткой она выдала мучителю свой секрет. Он завладел письмом Фламеля и бросил ее на произвол судьбы. В последнем усилии она своим истекающим кровью пальцем начертала на стене его имя: TIZIANO. После чего испустила дух. Вавель все слизал, кроме буквы «Z» или «N», теперь это уже не важно.