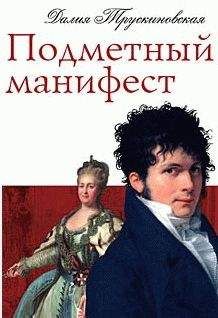Ознакомительная версия.
Почему-то в исповедальных списках указывалось еще и ремесло исповедуемого. Может, чтобы не путать тезок, - подлинной цели Устин не знал, но коли велено - писал, мог и еще чего по своему разумению добавить. Шварц обо всем об этом его досконально расспросил, прежде чем допустить присутствие бывшего дьячка на Лубянке. И те давние навыки не раз пригодились Устину даже когда просто перебелял бумаги. В иной «явочной» ни складу, ни ладу - а он где слово добавит, где слова местами переставит - получалось почти вразумительно. Однако сам он считал свое занятие временным и ждал лишь возможности убраться с Рязанского подворья. А она все никак не подворачивалась. И он порой болезненно ощущал свое состояние - состояние человека, застрявшего в ловушке и не имеющего сил вырваться.
Но сейчас душа уразумела свой путь и понеслась, и понеслась!…
Если по Лубянке бежать к Сретенским воротам, то как раз возле них по левую руку будет Сретенский монастырь, сам по себе не слишком старый, зато при нем есть храм Марии Египетской, вот тот по древности - третий на Москве, древнее - только Спас на Бору в Кремле и Всехсвятский на Кулишках. Храм - одноглавый, небольшой, с гладкими стенами без украшений, глубоко вросший в землю, а рядом - Сретенский монастырь с большим пятиглавым каменным собором, с высокой надвратной колокольней, с каменными кельями. Но именно малому храму еще при царе Петре был прислан дар от иерусалимского патриарха Досифея, частица мощей преподобной Марии Египетской - плюсна левой ноги, и хранится там в серебряном ковчеге.
Вот где преклонить колени и со слезами молить, чтобы преподобная упросила Господа избавить Дуньку от блудных вожделений! Вот где - а не шастать по храмам, небесные покровители коих отвечают совсем за иные стороны человечьего бытия!
Приведя себя в должный восторг, Устин подошел к храму Марии Египетский, заранее зажав в горсти несколько полушек - на милостыню. И обмер, услышав слаженные протяжные голоса. Трое слепцов пели на паперти, а народ слушал, иные - уже прослезившись: слепцы пели духовный стих, пели так, что за душу брало. Устин прислушался - это был пересказанный по-простому кусочек из жития преподобной Марии Египетской:
Пошел старец молиться в лес,
Нашел старец молящую,
Молящую, трудящую,
На камени стоящую.
Власы у нея - дубова кора,
Лик у нея, аки котлино дно.
Устин сразу же понял, что именно такова была святая, некогда гордившаяся своей телесной красотой, после сорокасемилетнего отшельничества, и ужаснулся, и умилился - ему самому не дано было так служить Богу, его постоянно допекали мирские заботы. И он искал, кому бы из людей послужить со всем пылом души, чтобы через это к Богу приблизиться, и нашел было Митеньку - но Господь прибрал Митеньку, как бы говоря этим Устину: ты не ищи служить наичистейшей душе, ты вот вынь из грязи и омой в слезах грешную душу.
Вот и послал эту самую грешную душу, к которой даже непонятно, как подступиться!
Подошел и встал рядом низенький инок - средних лет, с узкой седеющей бородкой, розовощекий, Устин невольно посмотрел на него - инок приветно улыбнулся.
- Ты не Всехсвятского ли храма дьячок будешь? - спросил тихонько.
Устину было стыдно признаться этому благостному человеку, что служит в полиции. И мысленно он возблагодарил Господа за то, что перемазал вчера мундир, опрокинув на себя плошку с конопляным маслом. Квартирная хозяйка обещалась за день так отчистить пятна, что и следа не останется, и Устин поплелся на Лубянку в тулупчике поверх старого полукафтанья.
- Я тебя признал, а ты меня - нет, - сказал инок. - Я тебя запомнил, когда все на поклон к надвратному образу ходили, на всемирную свечу деньги собирали. Я - Аффоний, а тебя как звать?
- Устином, отче…
- Сие значит - от праведного корени. А мне имя как бы в насмеяние дадено, означает - «изобилие», а обитель у нас небогатая, живем скудно. Всякой милостыньке рады.
- Я потом в храм помолиться пойду, положу в кружку, - пообещал Устин.
- Спаси Господи…
Слепцы меж тем, описав испуг старца и успокоительные слова отшельницы, перевели дух и, возвысив голоса, возгласили главное:
«Я тридцать лет во пустыне живу,
Я тридцать лет на камени стою -
Замоляю грехи великие,
Замоляю грехи великоблудные».
А и тут жена просветилася,
Видом ангельским старцу открылася,
И велела она вспомнить ее,
Величати Марией Египетской.
Устин, потрясенный тем, как встретил его храм, как встретила сама преподобная, стоял, тяжело дыша и твердо зная: свершилось чудо. Духовный стих был неким тайным знаком, что его молитва будет услышана. И тут же его осенило - он просто обязан был немедленно бежать на Ильинку, отыскать Дуньку и поведать ей про храм Марии Египетской.
Дунька же в этот миг, знать не зная и ведать не ведая про Устиновы устремления, кинула последний взгляд в зеркало и поспешила вниз, к экипажу. Хотя она жила на Ильинке, но пешком по ильинским модным лавкам не ходила, хоть три сажени - да проехать, задрав нос! Не в карете - так на саночках.
Ей в лавках, собственно, ничего не требовалось, кроме приятного общества. Марфа была умна, превосходно с Дунькой ладила, да только Дуньке хотелось компании ровесниц, молодых щеголих и вертопрашек, беседы о модных платьях и вещицах, об увеселениях, о галантных кавалерах и об амурных шашнях.
Она села в санки, запряженные одной лошадкой, оправила юбки, сунула руки в соболью маньку, висевшую на шелковом шнуре, подсказала кучеру Фаддею, как ловчее укутать ей ноги тяжелой медвежьей полостью и велела ехать по Ильинке неторопливо, чтобы видеть, кто входит в лавки и выходит из лавок.
Это имело еще и тайный смысл - Дунька сильно любопытствовала насчет лавки мадам Фонтанж. Упрямо не желая посещать заведение, приобретенное на архаровские деньги треклятой французенкой, она все же держала ушки на макушке и запоминала на всякий случай, кто из знакомцев и знакомиц покупает у мадам Фонтанж.
Напротив была такая же лавка, принадлежавшая мадам Лелуар. Вот тут Дунька и велела Фаддею остановиться. Кучер помог ей выбраться из санок, получил приказание - встать неподалеку, в Никольском переулке, откуда была бы видна дверь Лелуарши, - и Дунька ворвалась в милый сердцу мирок, неся на губах приятную улыбку - мало ли кто тут собрался уже и развлекается разглядыванием модных товаров?
Но улыбка окаменела на Дунькиных устах, зато глаза широко распахнулись.
В креслах у консоли, на которой были разложены безделушки, сидела дама, очень даже ей знакомая.
Это была Маланья Григорьевна Тарантеева.
Нельзя сказать, что они расстались врагинями. Точнее говоря, они вообще никак не расстались. Когда господин Григорьев обнаружил шашни своей любовницы-актерки и вздумал предпочесть ей ее молоденькую и шуструю горничную, он так исхитрился все сие проделать, что Дунька при шумном объяснении отсутствовала и вообще более в квартиру, снятую для Тарантеевой, не возвращалась, - новоявленный покровитель отправил ее на другую квартиру, потом же поселил в доме на Ильинке. И получалось, что они даже не ссорились, хотя Маланья Григорьевна прекрасно знала, на кого ее променяли.
Дунька понятия не имела, куда подевалась бывшая хозяйка, когда подаренные ей на прощание Григорьевым деньги кончились. Марфа взялась было выяснить - и рассказала, что с квартиры актерка съехала, нового местожительства хозяевам не сообщила. В воронцовском театре она более не появлялась.
Московские театры после чумы так до сих пор и не опомнились. «Российский театр», что на Красных прудах, еще и раньше лихорадило - вся Москва потешалась над склокой главнокомандующего графа Салтыкова и драматурга Сумарокова. Зарождались новые труппы, но были они еще слабы, давали представления в частных домах, да и пьесы брали невесть какие - из простой жизни, а госпожа Тарантеева мнила себя трагической героиней. Иначе, как благородными александрийскими виршами, она на подмостках разговаривать не желала.
Оставалось предположить, что тут же сыскался иной богатый покровитель и куда-то ее увез, хотя сие и было сомнительно - госпожа Тарантеева уже не блистала той юной красой, за которую господа готовы платить большие деньги.
Однако особа, сидевшая сейчас у Лелуарши, была одета в бархатную шубку на куньем, кажется, меху, и рука, застывшая над консолью, несла на себе два красивых перстня и браслет с разноцветными камнями.
- Фаншета! - воскликнула Маланья Григорьевна. - Да ты ли это, голубушка?
Дунька поразилась искренности в голосе актерки.
- Я, сударыня, - отвечала она сдержанно.
- Да не дичись! Нешто я не понимаю? Сама виновата, - сказала госпожа Тарантеева. - Давай, Фаншета, так - кто старое помянет, тому глаз вон.
«А кто старое забудет - тому оба вон», - подумала Дунька, но вслух завершать поговорку не стала.
- Сказывали, наш-то престарелый вертопрах тебя богато содержит, - продолжала актерка. - Будь умна, моих ошибок не повторяй - он тебя и замуж выдаст, и приданым хорошим обеспечит. Тебе уж двадцать, поди? Пора, пора о замужестве побеспокоиться. Я в твои годы уже давно замужем была.
Ознакомительная версия.