— Именно так? Вы не ошиблись?
— Нет-нет, я хорошо помню. Я вылезла из постели и подошла к окну, но в темноте не могла различить ни дядю, ни того, с кем он разговаривал. Что отвечал тот человек, я не слышала. Был сильный ветер, шумело море. Слова дяди долетали до меня обрывками. Как можно было понять, он умолял этого человека уйти и больше никогда не приходить, потом вдруг вскрикнул: «Ах так?…» Раздался выстрел. Из револьвера, наверное, потому что, будь у нас дома ружье, мы бы с Натальей знали. Я бросилась на крыльцо, но дядя уже успел вбежать в дом, заперся у себя и на мои мольбы открыть дверь и объясниться отвечал, чтобы я шла спать. Наталью он тоже не впустил, а наутро вышел к нам бледный, абсолютно трезвый и просил нас никому ничего не рассказывать. Он, дескать, вчера был пьян и немного покуролесил. Никаких иных объяснений я не добилась от него ни тогда, ни позже. Любое напоминание о той ночи было ему неприятно, и он сразу обрывал разговор.
— Где все это происходило? — спросил Иван Дмитриевич.
— Под Териоками. Наталья может подтвердить мой рассказ. Правда, она спала крепче меня и проснулась уже от выстрела.
— А госпожа Каменская?
— Ей мы решили не говорить, чтобы не было скандала.
— Не этот ли револьвер был у вашего дяди? — показал ей Иван Дмитриевич свою находку.
— Не могу сказать. Того я никогда не видела.
— А вы не задумывались, откуда тот человек явился к вам на дачу?
— Вероятно, пришел со станции. Большинство дачников уже разъехалось, а из тех, что остались, дядя никого не знал. С этим человеком он говорил как со знакомым.
— А море? Море вы исключаете? — вмешался Гайлель.
— Дул сильный ветер. К тому же там очень мелко, пароход не может пристать.
— А лодка?
— Лодка может.
— Извините, я выйду на минуту, — сказал Иван Дмитриевич. Он заметил за дверью Фохта, знаками дававшего понять, что у него есть важная новость, которую всем присутствующим знать необязательно.
— Мой ассистент прибыл, и мы извлекли пулю, — возбужденно сообщил он, когда Иван Дмитриевич вышел к нему в коридор.
— И что?… Ах да, револьвер-то у меня. Хотите проверить, тот ли калибр?
— Не в том дело. Дайте вашу руку.
Иван Дмитриевич подставил ладонь. В нее упал тщательно отмытый от крови и пороховой гари комочек светлого металла.
— Она серебряная, — прошептал Фохт.
Отвлекли голоса в прихожей. Полчаса назад Будягин отправлен был на квартиру Довгайло, в дом с табачной лавкой внизу, а теперь вернулся в компании пожилого интересного мужчины и молодой некрасивой женщины. Мужчина был худ, сед, аристократичен, одет в теплое не по сезону пальто. Шея обмотана шерстяным шарфом. Он шел сзади, женщина — впереди. Ее короткая стрижка, энергичная походка и умное костлявое лицо без малейших следов помады плохо гармонировали с костюмом светской дивы.
— Ужасно. Невозможно поверить. — Она протянула Ивану Дмитриевичу руку для пожатия. — Будем знакомы, меня зовут Елена Карловна. К несчастью, мой муж не совсем здоров, но я к вашим услугам.
— У меня пропал голос, — конфузливо морщась и трогая свой шарф, просипел Довгайло.
Вдруг забился в истерике дверной колокольчик. Наталья побежала в прихожую, лязгнула щеколда замка. Через секунду появился штатный сыскной агент Константинов.
— Иван Дмитриевич, — выпалил он, — беда! Ванечка ваш… Лошади его на улице потоптали.
— Жив? Говори!!! Жив?
— Не знаю.
На крик из кухни выскочил Гайпель. Фохт метнулся в кабинет, схватил саквояж с инструментами. Все четверо скатились по лестнице, выбежали на улицу и устремились к пролетке.
— Явился какой-то, — на бегу рапортовал Константинов. — Передайте, говорит, Путилину, сына его лошадьми смяло. Где, спрашиваю, а он сам ничего толком не знает, от извозчиков слышал.
Домчались в четверть часа. На звонок никто не ответил, Иван Дмитриевич открыл дверь своим ключом, бросился в комнаты. Квартира была пуста. Он рухнул на стул, шепча: «Господи! Если он жив, пальцем его никогда не трону!»
— Вставайте, возьмите себя в руки, — сказал Фохт. — Надо ехать по больницам.
Из записок Солодовникова,
Весной 1913 года наша бригада, в которой считалось до шестисот сабель (на самом деле число их не поддавалось учету), выдвинулась на восток Халхи, в долину Терельджин-гол в бассейне Керулена. Однажды во время разведки мы нарвались на конный разъезд «гаминов» [3], как называют монголы солдат республиканского ныне Китая. Одного нам удалось подстрелить, но двое других ускакали к своему отряду, стоявшему лагерем поблизости от этого места. Над нами нависла угроза погони с перспективой погибнуть или попасть в плен. Со мной было четверо монголов, среди них некто Баабар, молодой человек из княжеского рода, учившийся в Париже, но вернувшийся в Монголию, чтобы с оружием в руках сражаться за свободу родины. Прежде чем мы повернули коней, он спрыгнул на землю возле убитого китайца, аккуратно отрезал ему оба уха, потом выпрямился и одним плавным веерообразным движением, как шаман, сеющий гусиный пух, чтобы пожать бурю, поочередно швырнул их в том направлении, где скрылись двое уцелевших гаминов и откуда, вероятно, должна была появиться погоня. «Мы, монголы, — объяснил мне Баабар, вновь садясь в седло, — верим, что отрубленные у мертвеца уши заметают следы убийцы». Но, видимо, это поверье было знакомо не всем его соплеменникам. Я заметил, что остальные с недоумением, а то и с отвращением, как я сам, наблюдали произведенную операцию. Не знаю, она ли спасла нас от китайцев или выносливость наших лошадей, но мы благополучно вернулись в расположение бригады, В тот же вечер ко мне в палатку пришел Баабар и принес одну из книг французского ориенталиста Анри Брюссона, привезенную им из Парижа. «Прочтите здесь», — указал он.
«Паломники в монастыре Эрдени-Дзу, — прочел я, — рассказывали мне, что первый человек был сотворен без ушей, только с ушными отверстиями, как у птиц, но злые духи увидели, как прекрасно человеческое тело, и, желая хоть чем-нибудь его обезобразить, дождались, пока человек уснет, и прилепили ему к голове две раковины. Мои собеседники уверяли меня, что кое-где в Монголии до сих пор существует обычай перед погребением отрезать уши умершему, чтобы вернуть его к первоначальному, истинному облику. Вообще отрубить их у мертвеца — не грех, не надругательство над трупом. Напротив, за это убитый способен даже простить своего убийцу и помочь ему спастись от преследователей».
Баабар оставил мне книгу Брюссопа, очень им ценимую, и я прочитал ее всю. Она была написана строго, с несуетным достоинством настоящего ученого, который считает нескромным говорить о цене, заплаченной за добытые для науки факты, и лишь иногда проговаривается, что платой были сотни верст пути по хребтам Мацзюньшаня, песчаные бури в Гоби, одиночество, вши, разбойники, необходимость утолять жажду тошнотворной, жирно-соленой водой блуждающих озер. Покинутый проводниками, он скитался в зарослях мертвого карагача с окаменевшими ветвями, проходил по руслам высохших рек, видел призрачные огни в ущельях и чудовищные клубки змей в устьях пещер, окутанных ядовитыми испарениями, но все это было не более чем фоном его этнографических штудий. Передний план занимали халхасцы, чахары, дербеты, ёграи, представители других монгольских племен, порой безымянных, вымирающих, забывших все, даже обычаи предков, которые Брюссон восстанавливал по крупицам, живя одной жизнью с ними в их жалких жилищах из войлока и сухого навоза.
Наутро, возвращая книгу Баабару, я сказал, что больше не считаю его вчерашний поступок варварством. Он улыбнулся и пожал мне руку. Прошло полтора года. Уже в Петербурге я узнал, что недавно, когда Брюссон баллотировался во Французскую академию, поползли слухи, будто он никогда не бывал не только в Гоби, но и на севере Халхи, в районе Эрдени-Дзу. Дотошный корреспондент «Фигаро» установил, что все свои научные открытия Брюссон позаимствовал из малоизвестных сочинений русских путешественников по Центральной Азии. Но это бы еще полбеды! Как было замечено, многое в его книгах, в том числе популярное якобы в Монголии поверье о спасительной силе отрезанных у трупа ушей, оказалось подозрительно схожим с аналогичными фактами из полузабытых записок одного бретонского миссионера, десять лет прожившего в Африке, среди племен дельты Конго.
Через два часа бесплодных поисков Иван Дмитриевич опять поднялся к себе на этаж и услышал за дверью голосок жены. Она что-то напевала. От сердца отлегло, он вломился в прихожую, крича:
— Как Ванечка? Где он?
— Где ж ему быть? — удивилась жена. — Дома.
— Лежит?
— С какой стати? Восьмой час только, мы еще не ужинали. Да его теперь и к одиннадцати в постель не загонишь. Обнаглел, дальше некуда! Если тебя дома нет, ничего делать не хочет— ни французский, ни переодеваться в домашнее. Засел вон у себя в комнате и прыщи давит. Весь лоб расковырял, смотреть страшно.



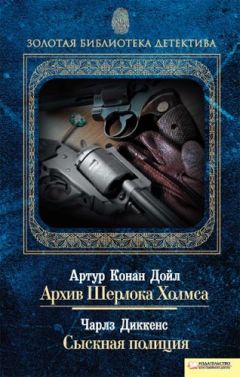

![Константин Путилин - Шеф сыскной полиции Санкт-Петербурга И.Д.Путилин. В 2-х тт. [Т. 1]](https://cdn.my-library.info/books/33302/33302.jpg)