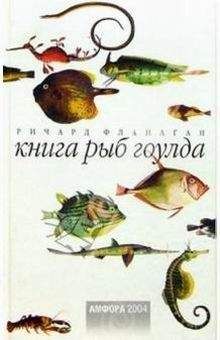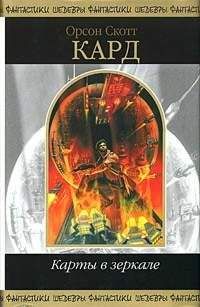Почему телеграмма? Да чтобы почерк не опознали, дубина. Тут же печатный текст, стало быть, никакой тебе графологической экспертизы. Знаю-знаю, о чем ты спросишь: место отправления. Нет, я никогда не был в Амбере, но и не такой лопух, чтобы посылать телеграмму из почтового отделения в районе Опера. Она ушла с Лионского вокзала. Доволен?
Мельхиор Шалюмо исполнил вокруг манекена жеманный танец.
— Ах, прекрасная Ольга без ума от меня! А когда она побывает на премьере моей оперы-балета, и вовсе рехнется!
Вторник, 21 апреля, на рассвете
Ламберу Паже казалось, что он живет в параноидальном кошмаре. Инспектор Вальми демонстрировал обманчивую вежливость, лукавство и маниакальную страсть к чистоте: за три часа допроса он вымыл руки уже двадцать раз, тщательно обрабатывая ногти намыленной щеточкой и используя пемзу для ладоней. Ненормальный! А его кабинет? Крысиная нора с видом на вонючий дворик! От аргументов Ламбера инспектор отмахивался, как от назойливых мух, пресекал все его попытки оправдаться — знал, что молчание порой красноречивее ответов на каверзные вопросы. На губах чистюли играла улыбка — издевательская, едва заметная, но ее значение не вызывало сомнений: «Ну что ж вы всё упорствуете? Я и так уже вывел вас на чистую воду, обо всем догадался!»
«Догадки не есть доказательства, инспектор! — мысленно усмехнулся Ламбер. — Ты блефуешь! У тебя ни единого козыря в рукаве. Хочешь, чтобы я сам раскололся? И не мечтай! Ты наверняка перевернул вверх дном мою квартиру, выпотрошил шкафы, вывернул наизнанку матрас, простучал пол, стены и потолок — но всё зря, ты не нашел ни одной улики. А на что ты надеялся? Найти формочки для выпечки в виде свинок? Корни аконита? Пряничные крошки, пропитанные ядом? Я успел избавиться от всего, что могло меня скомпрометировать. Бардак в моем жилище, повергнувший в ужас месье Легри, устроен намеренно, он призван усложнить тебе задачу».
Огюстен Вальми поднялся из-за рабочего стола, потянулся и опять направился к умывальнику.
«О нет! Господи, уйми его наконец!» — безмолвно взмолился Ламбер.
Однако инспектор не унимался — ритуал омовения повторился в двадцать первый раз. Судебный секретарь воспользовался очередной передышкой, чтобы дожевать половинку бисквита.
Ламбер принялся наблюдать за путешествием таракана по водопроводной трубе. И вдруг расхохотался.
— Вас так развеселила перспектива участия в судебном разбирательстве по делу о шести убийствах? — осведомился Огюстен Вальми, снова усаживаясь за стол.
— Я слушал вас очень внимательно, инспектор, и должен заметить, что у вас с месье Легри на редкость богатое воображение. Вы создали теорию, но не можете обосновать ни одного ее положения. Даже интересно, с чего вы собираетесь начать.
— Я знаю свое дело лучше, чем вы думаете, месье Паже. Вот потрудитесь взглянуть — я нашел это в вашем бумажнике.
На стол перед Ламбером Паже легла карточка бон-пуэн.
— Или это, по-вашему, тоже плод моего воображения?
— Шутить изволите? — фыркнул Паже. — Карточка бон-пуэн — доказательство моей вины? Я купил ее пару месяцев назад в писчебумажном магазине, который специализируется на школьных товарах. Хотите, продиктую адрес? Увидел картинку на витрине и не смог устоять, потому что тут изображен Жан-Батист Люлли. Опера Гарнье — мой второй дом, инспектор. Так к чему вы, собственно, клоните?
Огюстен Вальми откинулся на спинку стула и потер подбородок. Вид у Паже был по-прежнему уверенный, но инспектору показалось, что негодяй слегка занервничал.
— Не находите ли вы, инспектор, — продолжал между тем Ламбер Паже, — что как-то недостойно человека вашего звания и заслуг пытаться осудить в пяти убийствах невинного допропорядочного гражданина? Ведь это вовсе и не убийства, а несчастные случаи. Аркуэ утонул, Бландена подвело сердце — он много пил, Фералес свернул себе шею, провалившись в люк, мадам Бруссар подавилась, а по поводу смерти Сюзанны Арбуа, матушки моей подруги Жозетты, полиция уже четко ответила: преступление совершил бродяга.
Огюстен Вальми все время, пока подозреваемый говорил, задумчиво разглядывал лист бумаги с текстом, отпечатанным на машинке.
— Да что вам, в конце концов, от меня нужно?! — не выдержал Ламбер. — При всем моем уважении к вам, инспектор, я не намерен признаваться в пяти убийствах, которых не совершал! Сожалею, но не могу доставить вам такого удовольствия! Это ваша задача — доказать, что я убийца, а насколько мне известно, у вас нет ни одного аргумента. Ни свидетельских показаний, ни мотива, ни улик! Вам придется ограничиться судебным разбирательством по делу Анисэ Бруссара и принять мою версию вынужденной самообороны.
Пять дней спустя
— Как там продвигается ваше дело о пряничных свинках? — осведомился Кэндзи с плотоядной ухмылкой. — Вам удалось выяснить мотив преступлений?
— Нет, — надменно отозвался Жозеф, перевязывая стопку книг для доставки. — Ламбер Паже всё отрицает, признаёт лишь одно: что непреднамеренно убил Анисэ Бруссара в порядке самообороны. Об этом пишут в газетах. — Он запыхтел, пытаясь вытащить палец из тугого узла, который сам же и затянул. — Если вам любопытно, можете посвятить сегодняшний вечер чтению… О черт! Как мне надоели эти веревочки, тесемочки, бантики, хватит, не могу больше, это невыносимо! Просто китайская пытка какая-то!
— Дорогой мой Жозеф, в Японии существуют древние и славные традиции подарочной упаковки. Я всерьез подумываю о том, чтобы отправить вас туда на стажировку, только сперва вам придется выучить язык. Уверяю вас, японский куда проще китайского!
Июль 1897 г., воскресенье
Раскаленный добела город укрывал от солнца как мог редкие оазисы, поросшие чахлой травкой. Там парижане в промежутках между грозами могли отдохнуть на плетеных стульях, мысленно переносясь в какие-нибудь экзотические уголки планеты, пока вокруг грохочут омнибусы и кружатся на горячем ветру безвременно пожелтевшие, иссушенные жарой листья. Удовольствие стоило десять сантимов — именно за такую цену стулья выдавались напрокат.[112]
Кабы не изнурительная духота, лето походило бы на осень. Июль изводил горожан зноем и одновременно навевал на них тоску, сдувая влажным тропическим дыханием листья с каштанов. Расположившись вокруг фонтана Медичи в Люксембургском саду, клан Легри-Мори-Пиньо нежился в скудной тени, которую отбрасывали ветки с еще уцелевшими листьями. Подле взрослых стояли две детские коляски. В одной, причмокивая и пуская пузыри, спал Артур Габен, наследник Жозефа и Айрис; за малышом бдительно присматривала старшая сестренка. Чуть поодаль пышнотелая коррезианка,[113] младшая сестра Мелии Беллак, баюкала своего сыночка. У Айрис не хватало молока, пришлось обратиться к услугам кормилицы, и Пэррина Беллак — у нее-то молока на двоих младенцев было с лихвой, — поселилась в доме Пиньо, к величайшей досаде Эфросиньи. Особенно нервировал добрую женщину выдающийся бюст Пэррины, каковой так и тщился явить себя взорам публики, вырываясь из корсажа. «Истинная Иезавель эта толстуха, Иисус-Мария-Иосиф, хоть бы одевалась поскромнее, а то на такое богатство все мужики слетятся как конкистадоры на золото — не отобьется потом. Ах, если уж научный прогресс и принес нам что-то полезное, так это детский рожок для молока. Но нет, моя невестка питает к бутылочкам с соской предубеждение — ей чтоб все натурально было хочется!» — жаловалась Эфросинья всем подряд.
Дафнэ тоже с первой встречи невзлюбила румяную пейзанку — когда кормилица поднесла двух младенцев к могучей груди, девочка испугалась, что она подменит ее обожаемого братика на своего карапуза. Из-за неприкрытой враждебности со стороны бабушки и внучки Пиньо Пэррине Беллак приходилось порой спать на перекрученной простыне и пить кофе с солью вместо сахара, но добродушная жизнерадостная коррезианка безропотно сносила эти превратности судьбы, и с каждым днем грудь ее лишь больше наливалась молоком.
Во второй коляске посапывала во сне, крепко сжав кулачки, Алиса Элизабет Легри — Таша сама покормила ее час назад в подсобке книжной лавки «Эльзевир».
Виктор, обнаружив, как потяжелели, удвоившись в объеме, груди жены, был приятно удивлен. Однако пыл его быстро угас: все внимание Таша теперь принадлежало дочери. Мужу она тоже старалась уделять время, но времени отчаянно не хватало. «Просто нужно пережить тяжелый период, старина», — философски повторял себе Виктор. Впрочем, он был без ума от маленькой Алисы и ни за что на свете не стал бы требовать от жены сократить период кормления грудью.
Он склонился над дочерью. Какие мысли бродят в этой крошечной головке? Какие чувства таятся в сердечке? На кого она будет похожа, когда подрастет? Суждено ли ему быть рядом с ней, чтобы подмечать все изменения, происходящие в человечке в пору взросления?