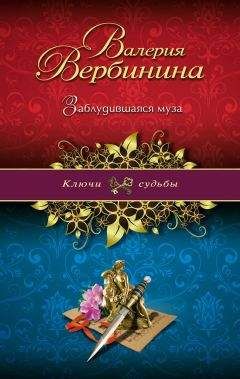Ознакомительная версия.
По правде говоря, Чигринский крепился долго – до пятого стихотворения, озаглавленного «Прекрасной», – но сейчас он просто не выдержал.
– Простите, Иван Ильич, но «тебя» и «меня» не рифмуются, – сухо заметил он.
Модест Трофимович Арапов поднял глаза на собеседника, и в лице его мелькнуло – да, Чигринский готов был в этом поклясться – нечто вроде снисхождения к композитору, который, даром что без пяти минут гений, ну ничегошеньки не понимал в современной поэзии.
– Рифмуются, – с восхитительной самоуверенностью объявил стихотворец.
– Не рифмуются. – Чигринский стиснул челюсти, на скулах его ходуном заходили желваки.
– Милостивый государь, – уже сердито промолвил студент, – если даже сам Пушкин в «Евгении Онегине» не стесняется рифмовать «колеи» и «земли…»
– Так то Пушкин, – отвечал безжалостный ретроград Чигринский. – Он срифмует корову и полено, с него станется.
– Но…
– Потому что он Пушкин, и обставит он все так, что это действительно будет восприниматься как рифма. А «тебя» и «меня» – не рифма.
В светлых глазах студента вспыхнула совершенно отчетливая злоба.
– Позвольте вам заметить, что Пушкин давно умер, – еле сдерживаясь, проговорил он. – Поэзия с тех пор шагнула далеко вперед!
– Может быть, и шагнула, – гнул свое упрямый Чигринский, – но «тебя» и «меня» все равно не рифма.
– Так что же мне писать? – слегка растерявшись, молвил студент.
– Не знаю. Вы же называете себя поэтом, а не я. И зачем у вас «безбрежный» и «бесконечный» в одной строке? Это синонимы, и одного слова тут вполне достаточно.
Арапов открыл рот.
– Сино…
– Они означают одно и то же. Зачем два раза повторять?
– Как – зачем? – изумился Арапов. – Но… затем, что… потому…
Больше ничего вразумительного он вымолвить не смог.
– И что это за беспечный ветер, который носит героиню? – добил его Чигринский. – Как он ее носит? Где? Она попала в ураган? Или героиня в данном случае – какой-нибудь обрывок бумаги, который действительно может унести ветром? Я, простите, совершенно не понимаю…
В гостиной воцарилось молчание. Студент был бледен и, кривя рот, смотрел в угол. Наконец гость выпрямился и закрыл тетрадь.
– Вам неинтересно то, что я пишу? – спросил он очень тихо.
– Простите, Максим Трофимович, – отозвался Чигринский, почти угадав, – но нет.
– У меня есть и другие стихи, – с надеждой прошептал студент.
– Я в этом не сомневаюсь, – вежливо ответил композитор, – но они меня не заинтересуют. – Он подумал, что бы такое сказать, чтобы утешить совершенно раздавленного молодого человека, и добавил: – И потом, я больше не буду писать песен.
– Почему? – удивился студент.
– Так. – Чигринский сделал неопределенный жест. – Не хочется.
Медленно, словно на ногах у него висели многофунтовые гири, Арапов стал подниматься с места. Но у него оставался еще один вопрос, который жег ему губы – и душу.
– Вы считаете, что я… что у меня… словом, что я недостаточно хорошо пишу?
– Я думаю, что вы славный молодой человек, – ответил композитор, которому теперь было немного неловко из-за того, что он так жестоко обошелся с иллюзиями своего посетителя. – В мире много замечательных вещей и помимо сочинения стихов. Любовь, например…
– Поэтому мои стихи никто не хотел брать, – задумчиво проговорил Арапов, не слушая его. – Ах, боже мой…
Его лицо исказилось гримасой отчаяния. Он сделал несколько шагов к двери, но потом, словно вспомнив что-то, повернулся.
– Простите… Я совсем забыл… Моя мама в восторге от вашей музыки… Она мечтала, чтобы я подарил ей на именины вашу карточку… с подписью…
– А, да, конечно, – сказал композитор, успокаиваясь. – Как зовут вашу матушку?
И самым красивым из своих почерков (который все равно чем-то походил на бегло записанные ноты) вывел на фотографии: «На добрую память Марии Владимировне Араповой. Дм. Чигринский».
Так как впоследствии Дмитрию Ивановичу пришлось вспоминать этот день до мелочей, оказалось, что после ухода Арапова он пытался вздремнуть на диване до обеда (не вышло), взял газеты и стал читать их (убил примерно час), после чего снял с полки первый попавшийся роман и честно попытался забыться приключениями какого-то Аркадия Эрастовича, у которого было необыкновенно красивое лицо, невероятно доброе сердце и который на протяжении трехсот страниц совершал все мыслимые и немыслимые глупости. Приключения не увлекли Чигринского, потому что он с первых же страниц понял, что Аркадий Эрастович окажется незаконным сыном миллионера Халютина, который то и дело без особой надобности возникал в сюжете, и счастливо сочетается браком с княжной Коромысловой, которая тоже была образцом совершенства. С горя Чигринский прочитал последние страницы, потом вернулся к середине и тут заметил второстепенного персонажа, уморительного щеголя Плюкина, который тоже имел какие-то намерения в отношении княжны, но предпочитал вздыхать по ней издали. Плюкин блуждал по главам, то появляясь, то исчезая и всякий раз производя совершенно комическое впечатление, так что Чигринский уже не мог дождаться, когда автор на время забудет о своих совершенных героях и вновь вспомнит о Плюкине, его забавной тросточке и его попугае по кличке Абрикос, который изрекал мудрые истины, но всякий раз совершенно не к месту и так, что Дмитрий Иванович едва не падал с дивана от хохота. И хотя книга была написана невозможным слогом и чуть ли не на каждой странице какая-нибудь красавица «заламывала свои белые руки» и луна «изливала мечтательный свет на княжеский сад», Чигринский закрыл ее с чувством, похожим на сожаление.
Он пообедал и стал блуждать по комнатам как тень, решительно не зная, чем занять себя и что вообще теперь делать. Внизу, в кухне, Мавра гремела посудой, за окном то и дело проезжали экипажи, напоминая, что жизнь не кончилась, а продолжается, нравится ему это или нет. Не выдержав бесцельного времяпрепровождения, Чигринский отправил Оленьке записку, что заглянет к ней сегодня вечером, и стал собираться.
– Я к Ольге Николаевне, – сказал он Прохору, когда тот вернулся и сообщил, что послание доставлено благополучно. – Когда вернусь, не знаю.
Снаружи во всей своей красе стояла петербургская весна, то есть такое время года, которое было названо весной согласно календарю, а на самом деле представляло собой нечто вроде гримасы зимы, которая решила напоследок хорошенько побаловать столичных жителей своим вниманием. У солнца, впрочем, как будто прорезалась совесть, и оно пару раз показалось между туч; но петербургское солнце скромно, так что ожидать от него щедрости было бы совершенно неразумно.
Отказавшись от извозчика, Дмитрий Иванович двинулся пешком. В витрине музыкального магазина была выставлена его фотография, и изображенный на ней субъект выглядел так по-гусарски нахально, что композитор, проходя мимо, укоризненно покачал головой.
«Ох уж эти фотографы! Впрочем, тогда я только закончил писать цикл романсов, познакомился с Оленькой, и все так удачно сошлось… А теперь черт знает что… не пишется, не сочиняется… Неписец!
В самом деле, – продолжал он мысленно, подходя к кондитерскому магазину, – когда пишется – писец, когда не пишется – неписец… не путать с песцом, это совсем другой зверь…»
Он зашел в кондитерскую, купил торт и фунт конфет и велел доставить их на квартиру к Оленьке, после чего направился во французский винный магазин.
Оленька любила сладчайший, янтарного оттенка сотерн, и композитор заказал две бутылки этого дорогого вина, велев отправить его опять-таки к ней на квартиру.
Когда он вышел из магазина, солнце, очевидно, позабыв стыдливость, все-таки засияло в полную силу, и, когда композитор на мгновение повернул голову, ему показалось, что он видит в конце улицы смутно знакомое лицо. Но человек, отступив, быстро скрылся за углом, а Чигринский тотчас же забыл о нем.
По пути ему попался ювелирный магазин, и Дмитрий Иванович, повинуясь минутной прихоти, заглянул туда.
– Что вам угодно, сударь? Вы ищете подарок для дамы? – с надеждой спросил приказчик, видя, как Чигринский рассматривает украшения.
– Гм… я так, собственно… – неопределенно отвечал Чигринский, и тут ему на глаза попались обручальные кольца, кокетливо поблескивающие под стеклом.
«А может быть, в самом деле жениться? – внезапно подумал он. – Почему бы и нет, в конце концов… 38 лет, пора уж и остепениться…»
Но тут в мозгу его ожил другой голос, который Дмитрий Иванович помнил и не любил, потому что этот голос слишком хорошо знал его, и потому, что он всегда оказывался прав. Голос, о котором идет речь, когда-то нашептывал композитору, что из его службы в армии не выйдет ничего путного, потому что армию он в глубине души не переносит, хоть и кажется для нее рожденным; и именно голос некогда подстрекал его бросить все, понимаете, все, и поставить жизнь на одну карту – музыкальную.
Ознакомительная версия.