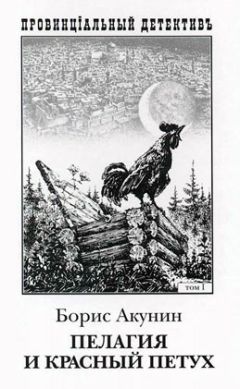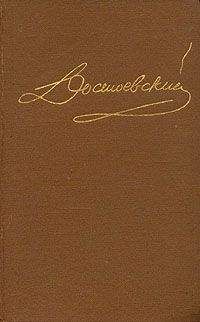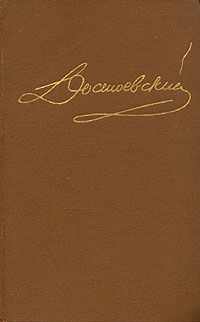Ознакомительная версия.
Бердичевский вышел из Синода на площадь. Зажмурился на яркое солнце, надел шляпу.
У решетки ждала коляска. 48–36 пялился на борца с австро-венгерским шпионажем, ждал знака. Поколебавшись, Матвей Бенционович подошел к нему, лениво сказал:
— Прокати-ка меня, братец,
— Куда прикажете?
— Право, не знаю, да вот хоть по набережной.
Вдоль Невы катилось просто замечательно. Солнце, правда, спряталось за тучи, и с неба брызнул мелкий дождик, но седок поднял кожаный верх и заслонился им от внешнего мира. Потом снова просветлело, и верх был спущен обратно.
Его превосходительство ехал себе, улыбался небу, реке, солнечным зайчикам, прыгавшим по стенам домов.
— Поворачивай на Мойку, — велел он. — Или нет, постой. Лучше пройдусь. Тебя как звать? Второй день ездим, а так и не спросил.
— Матвей, — сказал извозчик.
Бердичевский удивился, но несильно, потому что за нынешне утро успел существенно поистратить способность к удивлению.
— Грамотный?
— Так точно.
— Молодец. Держи-ка вот за труды.
Сунул в широкий карман извозчичьего кафтана несколько бумажек.
Возница даже не поблагодарил — так расстроился.
— И всё, ваше благородие, боле ничего не нужно?
Даже голос дрогнул.
— Не «благородие», а «превосходительство», — важно сказал ему Матвей Бенционович. — Я тебя, 48–36, сыщу, когда понадобишься.
Похлопал просиявшего парня по плечу, дальше отправился пешком.
Настроение было немножко грустное, но в то же время покойное. Бог весть, о чем думал бывший заволжский прокурор, идя легким, прогулочным шагом по Благовещенской улице. Один раз, у берега Адмиралтейского канала, загляделся на бонну, гулявшую с двумя маленькими девочками, и пробормотал непонятное: «А что им, лучше будет, если папенька — подлец?»
И еще, уже на Почтамтской улице, прошептал в ответ на какие-то свои мысли: «Простенько, но в то же время изящно. Этюд Бердичевского». Весело хмыкнул.
Поднимаясь по ступенькам Почтамта, даже напевал лишенным музыкальности голосом и без слов, так что распознать мелодию не представлялось возможным.
Быстро набросал на бланке телеграммы: «Срочно разыщите П. Ее жизнь опасности. Бердичевский».
Протянул в окошко телеграфисту, продиктовал адрес:
— В Заволжск, на Архиерейское подворье, преосвященному Митрофанию, «блицем».
Заплатил за депешу рубль одиннадцать копеек.
Вернувшись на улицу, его превосходительство немного постоял на ступеньках. Тихонько сказал:
— Что ж, прожито. Можно бы и подостойней, но уж как вышло, так вышло…
Видно, Матвею Бенционовичу очень хотелось с кем-нибудь поговорить, вот он за неимением собеседника и вступил в диалог с самим собой. Но проговаривал вслух не всё, а лишь какие-то обрывки мыслей, без очевидной логической связи.
Например, пробормотал:
— Рубль одиннадцать копеек. Ну и цена. — И тихо рассмеялся.
Посмотрел налево, направо. На улице было полно прохожих.
— Прямо здесь, что ли? — спросил неизвестно кого Бердичевский.
Поежился, но тут же сконфуженно улыбнулся. Повернул направо.
Следующая реплика была еще более странной:
— Интересно, дойду ли до площади?
Неспеша двинулся в сторону Исаакиевского собора. Сложил на груди руки, стал любоваться посверкивающей брусчаткой, медным блеском купола, кружащей в небе голубиной стаей.
Прошептал:
— Merci. Красиво.
Казалось, Матвей Бенционович чего-то ждет или, может, кого-нибудь поджидает. В пользу этого предположения свидетельствовала и следующая произнесенная им фраза:
— Ну, сколько можно? Это по меньшей мере невежливо.
Что именно он находил невежливым, осталось неизвестным, потому что в это самое мгновение на действительного статского советника с разбега налетел спешивший куда-то молодой человек крепкого сложения. Крепыш (он был в полосатом пиджаке), впрочем, вежливо извинился и даже придержал ойкнувшего Матвея Бенционовича за плечо. Приподнял соломенную шляпу, затрусил себе дальше.
А Бердичевский немного покачался с улыбкой на губах и вдруг повалился на тротуар. Улыбка стала еще шире, да так и застыла, карие глаза спокойно смотрели вбок, на радужную лужу.
Вокруг упавшего собралась толпа — хлопотали, охали, терли виски и прочее, а крепкий молодой человек тем временем быстро прошагал улицей и вошел в Почтамт через служебный ход.
У телеграфного пункта его ожидал чиновник почтового ведомства.
— Где? — спросил полосатый.
Ему протянули листок с телеграммой, адресованной в Заволжск.
Содержание полосатому, очевидно, было известно — читать депешу он не стал, а аккуратно сложил бумажку и сунул в карман.
Перед Яффскими воротами Пелагия велела поворачивать направо. Старый город объехали с юга вдоль Кедронского оврага.
Справа белело надгробьями еврейское кладбище на Масличной горе, издали похожее на огромный каменный город. Полина Андреевна едва взглянула на сей прославленный некрополь, обитатели которого первыми восстанут в день Страшного Суда. Утомленной путешественице сейчас было не до святынь и достопримечательностей. Круглая луна забралась в небо уже довольно высоко, и монахиня очень боялась опоздать.
— Если через пять минут не будем, где велено, двухсот франков не получишь, — ткнула она кучера кулаком в спину.
— А жениться? — обернулся Садах. — Ты сказала «ладно».
— Сказано тебе, у меня уже есть Жених, другого не нужно. Погоняй, не то и денег не получишь.
Палестинец надулся, но лошадей все же подстегнул.
Хантур прогрохотал по мосту и повернул вправо, на улочку, уходившую резко вверх.
— Вот он, твой сад, — пробурчал Салах, показывая на ограду и калитку. — Пять минут не прошло.
С сильно бьющимся сердцем смотрела Полина Андреевна на вход в священнейший из всех земных садов.
На первый взгляд в нем не было ничего особенного: темные кроны деревьев, за ними торчал купол церкви.
Эммануил уже там или еще нет?
А может быть, она вообще ошиблась?
— Подожди здесь, — шепнула Пелагия и вошла в калитку.
Какой же он маленький! От края до края полсотни шагов, никак не больше. Посередине заброшенный колодец, вокруг него с десяток кривых, узловатых деревьев. Говорят, оливы бессмертны, во всяком случае, могут жить и две, и три тысячи лет. Значит, какое-то из этих деревьев слышало Моление о Чаше? От этой мысли сердце монахини сжалось.
А еще более стиснулось в груди, когда Пелагия увидела, что в саду кроме нее никого нет. Луна светила так ярко, что спрятаться было невозможно.
Не нужно отчаиваться, сказала себе Полина Андреевна. Может быть, я пришла слишком рано.
Она вышла обратно на улицу и сказала Салаху:
— Спустимся вон туда. Подождем.
Он отвел лошадей вниз, к дороге. Там в осыпавшейся стене образовался провал, сверху нависали густые ветви деревьев, так что разглядеть повозку можно было, только если знать, где она стоит.
Салах спросил, тоже шепотом:
— Кого ждем, а?
Она не ответила, только махнула рукой, чтоб молчал.
Странная вещь — в эти минуты Пелагия уже нисколько не сомневалась, что Эммануил придет. Но волнение от этого не ослабело, а, наоборот, усилилось.
Губы монахини шевелились, беззвучно произнося молитву: «Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил! Желает и скончавается душа моя во дворы Господни, сердце и плоть моя возрадоваться о Бозе живе…» Моление родилось само собой, безо всякого участия рассудка. И лишь дойдя до слов «Яко лучше день един во дворех Твоих паче тысящ: изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жити ми в селениих грешничих», она осознала, что произносит мольбу о перемещении из жизни земной в Вечные Селения.
Осознав, задрожала.
С чего это душа вдруг исторгла псалом, который предписан человеку, находящемуся у порога вечности?
Но прежде чем сестра Пелагия могла прочесть иную, менее страшную молитву, с дороги на горбатую улочку свернул человек в длинном одеянии и с посохом.
Это всё, что успела разглядеть монахиня, потому что в следующий миг луна спряталась за маленькое облако, и стало совсем темно.
Путник прошел близко, в каких-нибудь пяти шагах, но инокиня так и не поняла, тот ли это, кого она ждет.
Стала смотреть вслед — повернет в сад или нет.
Повернул.
Значит, он!
Тут и луна высвободилась из недолгого плена, так что Пелагия разглядела спутанные волосы до плеч, белую рубаху и темный пояс.
— Он! — воскликнула она уже вслух и хотела кинуться за вошедшим в сад, но здесь случилось непредвиденное.
Ознакомительная версия.