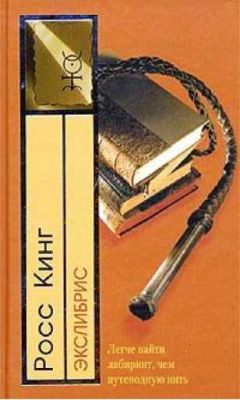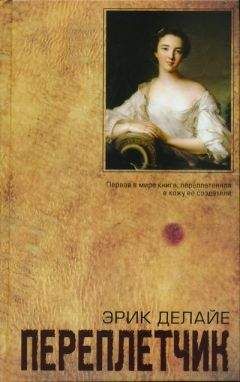Я сидел возле окна, подставляя лоб прохладному ветерку. Дождь припустил пуще прежнего. Потолок в коридоре уже начал протекать, а чашки и кюветки позвякивали дружно на столе. Еретические книги? Я почесал бородку, собираясь с мыслями.
— Какого же рода сей грех? — спросил я, поскольку она умолкла, склонившись над страницей. — Новый герметический текст, который инквизиция хотела запретить?
Она отрицательно качнула головой.
— Церкви уже больше нечего было бояться сочинений Гермеса Трисмегиста. Уж вам ли этого не знать. В тысяча шестьсот четырнадцатом году древность этих текстов оспорил Исаак Казобон, который убедительно доказал, что все они — подделки более позднего времени. В итоге, разумеется, Казобон, при всем его таланте, направил свое великолепное орудие против самого себя. Своим трактатом он надеялся опровергнуть папистов, в частности кардинала Барония. А вместо этого просто помог уничтожить одного из их самых заклятых врагов.
— Потому что Corpus hermeticum использовали такие еретики, как Бруно и Кампанелла, чтобы оправдать свои нападки на Рим.
— И они, и множество других. Да. Но мудрейший Казобон одним ударом уничтожил тысячи лет магии, суеверий и, по мнению Рима, ереси. После того как время написания герметических текстов определилось, появление любой новинки такого рода уже не имело никакой опасности и едва ли заинтересовало бы кого-либо, кроме кучки полусумасшедших астрологов и алхимиков. Что позволяло использовать их в качестве прекрасной маскировки.
— Маскировки? — Я беспокойно поерзал на стуле, пытаясь уразуметь сказанное. — О чем вы говорите?
— Неужели вы не догадались, мистер Инчболд?
Она отложила тонкую книгу в сторону, и, прежде чем ветер прошелестел ее страницами, я увидел, что на верхней половине первой страницы уже проявились синие строчки, привидение прежнего текста, вызванное из небытия ядовитой смесью Алетии. Она аккуратно приложила к новоявленному тексту лист промокательной бумаги и затем закрыла книгу. Ветер посвистывал в горлышках склянок и бутылей, создавая жуткую какофонию звуков. Кусок сдвинувшейся сланцевой плитки лязгнул по желобу и упал на землю. Оконная створка с шумом захлопнулась. Отодвинувшись назад на своем стуле, Алетия встала из-за рабочего стола.
— «Лабиринт мира» был всего лишь новой записью, — сказала она наконец, — только поверхностным текстом. Подделка не хуже других, уловка, которую сэр Амброз использовал, чтобы скрыть другой текст, обладавший великой ценностью. Сами кардиналы инквизиции желали бы заполучить это сочинение. — Она осторожно закупорила склянку с цианидом. — И многие другие также.
— Что же это за текст? Очередная ересь?
— Да. Новорожденная. Поскольку если в тысяча шестьсот четырнадцатом году один свет угас, то другой начал зарождаться. В том же году, когда Казобон нанес свой удар по «герметическому своду», Галилей напечатал три письма в защиту своей Istiria e dimostrazioni, изданной им в Риме годом раньше.
— Его трактат о солнечных пятнах, — озадаченно кивнул я. — Тогда он впервые выступил в защиту модели Вселенной, предложенной Коперником. Хотя я не возьму в толк, какое…
— В тысяча шестьсот четырнадцатом году, — продолжала она, не слушая меня, — учения двух египтян — Птолемея и Гермеса Трисмегиста — были разбиты наголову. Оба они ответственны за тысячу с лишним лет ошибок и заблуждений. Но кардиналы и их советники в Риме относились к авторитету астронома более ревниво, чем к репутации египетского шамана, и поэтому письма, опубликованные Галилеем в тысяча шестьсот четырнадцатом году, они восприняли в первую очередь как довод в пользу того, чтобы черпать из Библии моральные, а не астрономические уроки, воспринимать ее аллегорически, если она вступает в противоречие с научными изысканиями. Все пошло прахом, разумеется, поскольку уже в следующем году одно из этих писем лежало перед инквизицией.
— Значит, это один из текстов, опубликованных Галилеем? — Я вспоминал переведенные Солсбери Dialogo; именно за «Диалоги» Рим преследовал знаменитого астронома, заставив Галилея отречься от своих открытий. — Один из тех, что внесли в «Индекс» после того, как в тысяча шестьсот шестнадцатом году инквизиция предала анафеме учение Коперника?
Алетия отрицательно покачала головой. Она стояла перед окном, положив руку на трубу телескопа, который уже аккуратно установила на треножник. Сквозь затуманенное окно я заметил, что карета, с трудом тащившаяся по грязи, подъехала немного ближе. Ближе к дому, насколько я мог разглядеть через дождевые завесы, размывающие очертания зеленого лабиринта; даже с высоты он выглядел безнадежно запутанным, бесконечная путаница причудливых узоров и тупиков.
— Нет, — ответила она, взяв ведерко с рабочего стола и направляясь в коридор. — Этот документ не публиковался ни разу.
— Да? Так что же это за документ?
Вода с потолка уже не капала, а текла ручьем. Алетия нагнулась и, поставив ведро под дождевую струю, выпрямилась.
— Теперь этот пергамент будет сохранен, — сказала она. — Давайте продолжим наш разговор в другом месте.
Я бросил последний взгляд в окно — карета исчезла за деревьями — и последовал за ней к лестнице. Кто же ехал сюда? Сэр Ричард Оверстрит? И вдруг я почувствовал себя еще более тревожно.
Ухватившись за перила, я начал спускаться по ступеням. Я уже собирался что-то сказать, но всего через пару шагов она вдруг так внезапно остановилась и повернулась ко мне, что я чуть не налетел на нее.
— Интересно, — сказала она, задорно взглянув на меня, — много ли вам известно о легендарном Эльдорадо?
Запах, витавший в библиотеке, резко отличался от лабораторного. Все в этом похожем на пещеру помещении осталось в точности таким же, как мне запомнилось, только теперь приятный затхловатый дух старых книг смешался с привычными для меня ароматами кедрового и ланолинового масла и резким смолистым запахом свежей древесины: и неудивительно — в глаза бросались несколько отремонтированных полок и починенные перила на галерее. Эти запахи навеяли мне воспоминания о моем собственном магазине, ведь никакие другие раздражители не возвращают нас в прошлое с такой легкостью и остротой, как запахи. И внезапно я почувствовал себя таким же несчастным, как в то последнее утро в таверне «Полумесяц». Я покинул свой дом совсем недавно, а казалось, что я не видел его уже много лет.
Алетия предложила мне присесть у окна в одно из обитых кожей кресел. Они также были новыми, как и стоявший между ними столик орехового дерева и лежавший под ними на полу ручной выделки ковер с множеством обезьян и павлинов. Прошаркав по полу, я послушно опустился в одно из этих скрипучих кресел. Финеас как сквозь землю провалился. Даже его кровавый след исчез. Как бы мне хотелось, чтобы наша постыдная потасовка оказалась лишь плодом моего возбужденного воображения.
Я закинул ногу на ногу, потом снова вытянул ноги, ожидая объяснений Алетии. В те дни я мало знал о мифической стране Эльдорадо, или Золотой земле, — о том призрачном огоньке, на который уже почти столетие устремлялись бесчисленные искатели приключений в коварные джунгли бассейна Ориноко. Эта страна упоминалась такими летописцами испанских завоеваний, как Фернандо де Овиедо, Сьеза де Леон и Хуан де Кастеллано, — с их записями я бегло ознакомился в первые же дни по возвращении из Понтифик-Холла, причем все их истории противоречили друг другу. Слухи об Эльдорадо достигли ушей конкистадоров вскоре после того, как Франсиско Писарро в 1530 году завоевал Перу: некий город золота, управляемый отважным одноглазым вождем, el indio dorado[59], который каждое утро по обычаю разрисовывает свое тело золотоносным песком, выловленным в Ориноко или, возможно, в Амазонке… или в одном из их бесчисленных притоков, змеившихся через джунгли. Испанцев заинтересовали слухи о золотоносных реках, и в 1531 году некий капитан по имени Диего де Ордас получил от германского императора Карла V capitulation подняться в верховья Ориноко и отыскать этого нового Монтесуму и его золотой город. Он не нашел ровным счетом ничего, но тем не менее будущие исследователи проявили редкостное упорство, и в течение нескольких последующих десятилетий конкистадоры постоянно отправлялись в эти джунгли подобно странствующим рыцарям из столь популярных в то время романов. Один из них, по имени Хименес де Кесада, подвергал пыткам всех встречных индейцев, поджаривая им пятки на углях и поливая кипящим свиным жиром животы. Поощряемые такими действиями, его жертвы вдохновенно рассказывали истории о тайном городе золота — его порой теперь называют Омагуа или Маноа — в дебрях гвианских джунглей или даже, по аналогии с Теночтитланом, в центре озера.