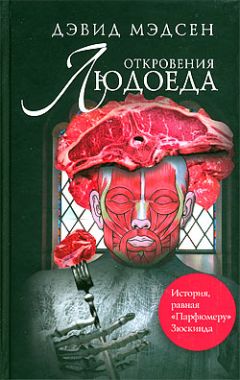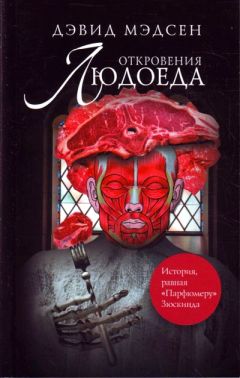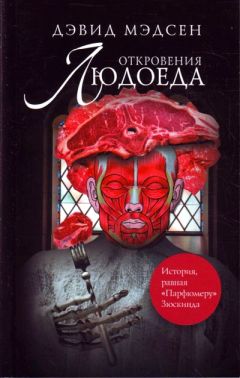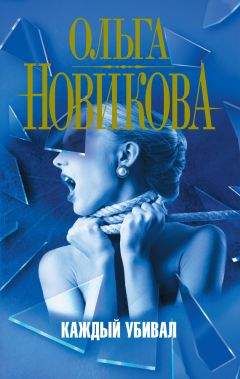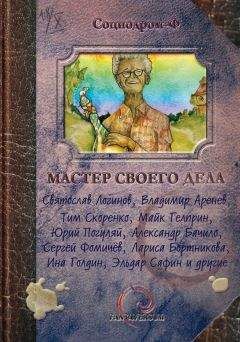Как вы скоро узнаете, мне было не так уж много лет, когда я обнаружил — весьма драматичным способом — что не хочу быть никем, кроме как шеф-поваром, настоящим мастером кулинарных искусств; действительно, их волшебство и тайна, их ревниво охраняемые секреты, великолепие их техники и инструментов интриговали и очаровывали меня даже еще до того, как я стал достаточно высоким, чтобы дотянуться до ручки двери в кладовку. Будучи ребенком — действительно не знаю почему — я обычно проводил часы, слоняясь по кухне: отмеряя, взвешивая, принюхиваясь, пробуя, сочиняя; мой отец, — самое безобидное, что можно сказать о нём — это то, что он безобидный идиот, — тратил много энергии, пытаясь убедить и склонить меня к тому, что он считал более подходящими увлечениями, вроде заводных поездов или футбола. Я помню единственный случай, когда он исполнил акт благородного насилия надо мной — за некий незначительный домашний проступок, природа которого ускользнула из моей памяти. Он бил меня по голым ягодицам битой для крикета; эту биту он купил на мой одиннадцатый день рождения в тщетной надежде, что она может пробудить во мне интерес к игре. Он заставил меня снять штаны и трусы, и лечь поперек подлокотника его любимого кресла, мое лицо уткнулось в пухлое пружинистое сидение. Я все еще вспоминаю запах теплой, потертой кожи, обогащенный пикантным острым запахом пота с его задницы, впитывающегося годами.
Он прописал мне три крепких удара, но мне не было больно. Моя мама стояла позади него, сжимая руками свое горло; она издавала странный звук, жуткий пронзительный выкрик каждый раз, когда бита опускалась на мои обнаженные ягодицы. Я счел этот странный ритуал непостижимо возбуждающим; теперь, полагаю, я бы сказал, что это был эротический опыт. Затем, отложив биту в сторону (и достаточно тяжело дыша), мой отец сделал странную вещь: он потянулся к низу моего зада и сжал мою маленькую мошонку в своей руке, бесстыдно исследуя ее, нежно массируя ее кончиками своих пальцев.
— О да, да, отлично, — прошептал он. — Отличная парочка! Никогда не забывай, что Бог дал тебе яйца, Орландо.
Тепло и мягкость его руки были чрезвычайно приятными, когда он сжимал и массировал мою мошонку, и я был весьма огорчен, когда он прекратил делать это через секунду-другую. В тот вечер, оставшись один в своей спальне, я схватил себя между ног точно так же, как он схватил меня, нежно сжимая и потирая. Это случилось со мной, когда я воскресил в памяти эту восхитительную sсепа[24] которую мой отец должен был наверняка счесть столь же всецело эротической, как и я, хотя никто из нас не смог бы (по различным причинам) классифицировать ее как таковую. В любом случае, подобное никогда не повторялось.
— Любовь — это священная штука, — сказал он мне однажды, неожиданно войдя в мою комнату, избавляя меня от вступления, которое, как я ожидал, должно быть в беседе мужчины с мужчиной о так называемых «фактах жизни». (Не были ли они, скорее, всего лишь возможностями?)
— Никогда не стыдись тех чувств, которые женщина вызывает в глубине твоей души, Орландо.
— В глубине чего?
— Все это так, как задумал Бог. Никогда не стыдись этого, и никогда не злоупотребляй этим; держи себя чистым, целомудренным и мужественным, и ты оценишь действие любви во всей полноте, когда придет твое время испытать это.
Излишне говорить о том, что я счел этот лакомый кусок грубого домашнего сексуального обучения мучительным и стеснительным.
— Я был девственником в нашу первую брачную ночь, — продолжал он, — так что радость этого пришла ко мне как чудесное озарение. О, ты будешь прельщен, как и все мы — но инстинктивно ты должен сопротивляться, Орландо! Не оскверняй свое тело так же, как это делают некоторые молодые люди; что они могут знать об акте любви? Значение имеет любовь, Орландо, а не биологические потребности.
Затем, внезапно переключив передачу, перейдя от сентиментального душевного романтизма к клинической невозмутимости, он продолжил:
— Мужской пенис — это чудо власти и определенности, Орландо! Когда член мужчины полностью эрегирован…
— Я слишком занят, — сказал я, — мы не могли бы продолжить эту восхитительную беседу в другое время?
Он вышел из комнаты с выражением удрученного удивления на своем одутловатом лице.
Мой отец не оставил никакого отпечатка на податливой текстуре моей юной психики; сейчас я с трудом могу вспомнить, как звучал его голос — он был несколько высоковатым и ворчливым, я думаю. Всякий раз, когда я вспоминаю о нем (что теперь редко случается), он представляет собой всего лишь смутный образ, запутавшийся в открытых всем ветрам звеньях темного вакуума. Я не могу разглядеть ничего значительного. Если можно доверять проницательным эзотерическим наблюдениям по поводу этого состояния Герра Доктора Юнга, честь формирования и очерчивания моей натуры безраздельно принадлежит моей матери.
Королева моего детства в Хайгейте[25]
Я преклонялся перед своей матерью. Повернутые на психологии циники будут кудахтать и кивать своими набитыми теориями головами, когда я скажу, что она была моим единственным настоящим товарищем и другом, так же, как и моей матерью, тем не менее, это так; между нами существовала, это может показаться с самого начала, осмотическая связь, которая позволяла ей интуитивно понимать и усваивать каждое мое настроение, любую хитрость и ощущение, каждое летнее облачко и осеннюю тень, которые пересекали пейзаж моей души, и незамедлительно реагировать на них. Иногда я даже не говорил о своем внутреннем состоянии — даже беглого взгляда в ее сторону было достаточно для того, чтобы она узнала и вполне поняла, что происходит в моей просторной чуткой душе. Герр Доктор Юнг также говорил, что такие вот маменькины сынки становятся, к великому счастью мамочек, гомосексуалистами, однако в моем случае отличный докторский прогноз не совсем верен, так как я испытываю склонность к обоим полам; напыщенный катехизис современных сексологов, несомненно, отнес бы меня к бисексуалам, но так как я всегда считал себя, скорее, причиной для праздника, чем объектом для психологического исследования, я предпочитаю не использовать это понятие. Позвольте нам просто сказать, что спелые обеспеченные дамы и молодые люди с идеальными задницами в равной мере привлекательны для меня; это последнее обстоятельство может быть, я предполагаю, ex consquenti[26] того, что мой идиот отец бил меня по ягодицам. Он лелеял надежду, что однажды я встречу «милую девушку» и пожелаю остепениться в браке с ней.
— Неужели ты не беспокоишься, Орландо? — сказал бы он с тошнотворной отеческой конфиденциальностью. — Мисс Правда довольно скоро придет за тобой.
Я считаю это пророчество крайне забавным; в конце концов, какая девушка, — насколько бы они ни была «милой» — могла бы быть достойной величия и божественности моей матери? Только моя мать была единственной женщиной в моей жизни. Я занимался любовью с огромным количеством изысканных созданий обоих полов, но я без всяких исключений любил только мою хайгейтскую королеву.
Моя мать сама по себе была чрезвычайно красивой, и я часто удивлялся, что привлекало ее в моем отце; он, несомненно, был некрасивым, и он не обладал привлекательностью характера или дарованиями. Однажды я попытался удовлетворить свое природное любопытство, откровенно спросив об этом свою мать, но она, похоже, не была расположена к интимным откровениям.
— Здесь должно быть нечто, — сказал я, моя рука покоилась на ее коленях.
— О да, да, это было, Орландо.
— Что?
— Я едва ли думаю, дорогой, что сейчас подходящий момент для того, чтобы затрагивать это в столь лычном разговоре. Ни твой отец, ни я — мы уже не те люди, которыми когда-то были. Мы изменились, Орландо; знаешь ли, все меняются рано или поздно. Я все еще люблю твоего отца. Я им вполне довольна.
— Но почему ты его любишь? — упорствовал я.
Мама улыбнулась мне: улыбкой безграничного терпения и сочувствия. Она никогда не злилась на меня.
— О, Орландо, дорогой, когда-нибудь я объясню тебе все, и тогда ты поймешь.
Но она так и не объяснила, а я так и не понял.
Много лет спустя, под воздействием невероятно замечательной бутылки «Chateau Neuf du Pâpe», я оказался столь неосмотрителен и безрассуден, что заговорил об этом с Генрихом Херве.
— Может быть, у него был двадцатидюймовый член? — сказал он, похотливо усмехаясь.
И в этом, дорогой неизвестный читатель этих откровений, и заключается мера оценки человека. На самом деле я не знаю, какого размера у него был член, но если все остальные его достоинства соответствовали длине его члена, у него, несомненно, должна была быть бледная, не вдохновляющая, морщинистая, неописуемо маленькая штучка.
В годы своей юности моя мама была преуспевающей актрисой в театральной труппе с подготовленным репертуаром, путешествующей по стране с веселыми романтическими комедиями, такими как «Авеню Разбитых Сердец» и «Переменчивые Страсти» Куинси Кэвенаха, обе они высоко ценились в свое время; несмотря на это, после того, как она встретила моего отца, и он — какими-то фантастическими природными способностями, которых я даже не могу предположить — убедил ее в том, что заслуживает ее любви, она оставила (принесла в жертву, я бы сказал) свою карьеру и поселилась с ним в доме в Хайгейте, где я родился и вырос. Иногда, пребывая в ностальгическом настроении, она сажала меня к себе на колени и рассказывала о своих золотых годах на сцене.