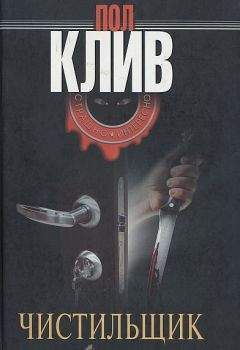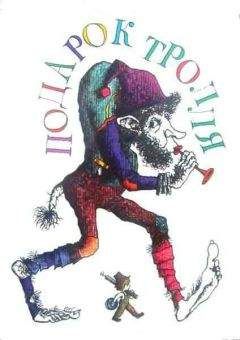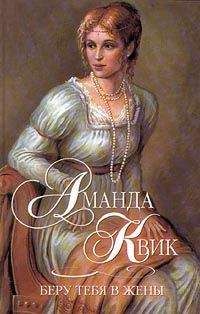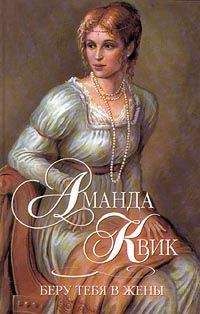Я выхожу на улицу и иду к ближайшей остановке. Жду минут пять, потом наконец-то подъезжает автобус.
Мама живет в Южном Брайтоне, это рядом с морем. Там совсем нет зелени. Как и все остальные растения в этом районе, трава там покрыта оттенком ржавчины, который появляется и на любой металлической поверхности, подвергнутой воздействию соленого воздуха. Появись тут хоть один розовый куст, весь район здорово вырос бы в цене. Большинство домов — это бунгало, которым лет по шестьдесят и которые все еще пытаются выглядеть соответствующе, несмотря на отлетающую краску и медленно гниющие стены. Все окна затуманены солью. Деревянные сваи облеплены сухими еловыми иглами и песком. Заплатки уплотнителя и пластыря затыкают дыры, чтобы внутри помещения было сухо. Тут даже грабить невыгодно. Если подсчитать расходы на бензин, скорее всего, выяснится, что дороже вламываться в чей-то дом, чем этого не делать.
На автобусе до мамы полчаса езды. Когда я выхожу, то слышу, как волны бьются о берег. Звук успокаивающий. Это единственное достоинство района Южный Брайтон. Отсюда до пляжа несколько минут ходьбы, и если бы я жил в окрестностях, я бы прошелся эту лишнюю минуту и плавал бы, плавал… А сейчас у меня ощущение, что я нахожусь в призрачном городе. Только в паре окон горит свет. Каждый четвертый или пятый уличный фонарь разбит. И никого вокруг.
Уже стоя у забора, я глубоко вдыхаю здешний соленый воздух. Моя одежда уже пропахла затхлым запахом водорослей. Мамин дом в том же отчаянном состоянии, что и все остальные дома в этом районе. Если бы я однажды сюда пришел и покрасил его, соседи выгнали бы маму из дома. Если бы я подстриг газон, мне бы пришлось стричь газоны всем остальным. Ее дом — одноэтажная, всеми ветрами продуваемая халупа. Когда-то белая, теперь цвета дыма краска осыпается с облезлых стен и падает во двор вместе с ржавой пылью от железной крыши. Окна держатся на потрескавшейся замазке и на честном слове.
Я подхожу к двери. Стучу. Жду. Проходит целая минута, пока она наконец семенящей походкой не подходит к двери. Дверь застревает в проеме, и, чтобы открыть ее, маме приходится довольно сильно ее дернуть. Дверь содрогается, петли ноют.
— Джо, ты знаешь, который час?
Я киваю. Почти семь тридцать.
— Знаю, мам.
Она закрывает дверь, я слышу, как скрипит цепочка, и дверь открывается снова. Я захожу внутрь.
В этом году маме исполнится шестьдесят четыре, но выглядит она на все семьдесят, не меньше. В ней метра полтора роста, и вся она состоит из изгибов в каких-то неподходящих местах. Некоторые из этих изгибов переходят в другие, а некоторые настолько массивны, что оттягивают морщинистую кожу сзади на шее. Седые волосы обычно затянуты в пучок, но сейчас они покрыты чем-то вроде старой сетки для волос, прикрывающей бигуди. Глаза у нее голубые, но бледные, почти выцветшие, и прикрыты толстыми очками, которые никогда не были в моде. На ее лице три родинки, и в каждой торчит по черному волоску, которые она никогда не удаляет. Над верхней губой — мягкая полоска волос. Она похожа на старшую сиделку в доме престарелых.
— Ты опоздал, — говорит она, встав поперек входа и поправляя свои бигуди. — Я так волновалась. Я уже собиралась звонить в полицию. Я чуть не позвонила в больницу.
— Мам, у меня были дела на работе, и вообще… — говорю я, с облегчением думая о том, что она не заявила полиции о моей пропаже.
— Слишком занят, чтобы матери позвонить? Слишком занят, чтобы хоть на секунду задуматься о моем разрывающемся сердце?
Я это все, что у нее осталось. Неудивительно, что папа умер. Везунчик. Создается впечатление, что моя мать живет ради единственной цели — говорить. И ворчать. Ей здорово повезло, что эти две вещи можно делать одновременно.
— Мам, я же сказал, прости.
Она сжимает мое ухо. Не слишком сильно, но достаточно, чтобы показать, насколько она обижена. Потом обнимает меня.
— Я приготовила тебе котлеты, Джо. Котлеты. Твои любимые.
Я протягиваю ей розу, которую сорвал в саду у Анжелы. Роза слегка помята, но в момент, когда я вручаю маме этот красный цветок, выражение ее лица непередаваемо.
— О, Джо, ты такой внимательный, — говорит она, поднося розу к носу, чтобы понюхать.
Я пожимаю плечами.
— Просто хотел тебя порадовать, — отвечаю я и начинаю улыбаться, глядя, как улыбается она.
— Ай! — произносит она, уколов себе палец одним из шипов. — Ты даришь мне розу с шипами? Что ты за сын такой, Джо?
Очевидно, сын я плохой.
— Извини. Я не думал, что так получится.
— Значит, ты мало думаешь, Джо. Сейчас поставлю ее в воду, — говорит она и отходит в сторону. — Да и ты тоже заходи.
Она закрывает за мной дверь, и я иду за ней по коридору по направлению к кухне, проходя мимо фотографии моего покойного отца, мимо кактуса, который выглядел засохшим уже в тот день, когда был куплен, мимо картины с морским пейзажем. Может, в таком месте мама хотела бы когда-нибудь побывать. Пластмассовый стол накрыт на двоих.
— Хочешь чего-нибудь попить? — спрашивает она, опуская розу в вазу.
— Нет, спасибо, — отвечаю я, поплотнее закутываясь в куртку. В этом доме всегда холодно.
— В супермаркете скидки на кока-колу.
— Нет, спасибо.
— Три доллара за упаковку из шести банок. Сейчас чек покажу.
— Мам, оставь. Я же сказал, что не хочу.
— Ничего-ничего…
Она уходит, оставив меня одного. Хотел бы я выразить эту мысль как-нибудь помягче, но мать моя с каждым днем съезжает с катушек все больше и больше. Я верю ей, что на кока-колу скидки, но ей все равно обязательно нужно показать мне чек. Проходит несколько минут, и все, что мне остается делать, это пялиться на духовку и микроволновую печь, поэтому я убиваю время, размышляя о том, как трудно было бы в одну из них целиком запихнуть человека. Когда мама возвращается, она несет еще и флайер из супермаркета, на котором рекламировалась скидка.
Я киваю.
— И правда три доллара. Удивительно.
— Ну так как, тебе налить?
— Давай.
Так проще.
Она накрывает ужин. Мы садимся и начинаем есть. Столовая прилегает к кухне, и единственный вид, который мне остается, это или моя мать, или стена позади нее, так что я смотрю на стену. Все электроприборы здесь выглядят так, будто они устарели уже тогда, когда изобрели электричество. Линолеум на полу как будто скроен из лягушат Кермитов,[1] с которых содрали кожу. Стол ярко-бананового цвета. Холодные металлические ножки. Стулья обиты мягкой тканью; мой стул слегка шатается при каждом движении. Мамин стул, в отличие от моего, укреплен.
— Как прошел день? — спрашивает она. Крошечный кусочек морковки прилип к ее подбородку. Как будто одна из родинок пыталась его на себя насадить.
— Нормально.
— Я от тебя целую неделю ничего не слышала.
— Я кое к чему готовился.
— По работе?
— По работе.
— А твой двоюродный брат женится. Ты знал?
Теперь знаю.
— Правда?
— Когда ты найдешь себе жену, Джо?
Я заметил, что пожилые люди всегда жуют с открытыми ртами, так что ты слышишь, как еда у них во рту шлепает о нёбо. Это потому, что они все время собираются что-то сказать.
— Не знаю, мам.
— Ты ведь не голубой, сынок?
Она говорит это и жует одновременно. Как будто это какая-то мелочь. Как будто она просто сказала что-то вроде: «Тебе идет эта майка» или «Хорошая выдалась погодка сегодня».
— Нет, мам, я не голубой.
На самом деле это действительно мелочь. Я не имею ничего против голубых. Совсем ничего. В конце концов, они просто люди. Как все остальные. А вот по отношению к людям вообще кое-какие проблемы у меня имеются.
— Хм, — хмыкает она.
— Что?
— Да нет, ничего.
— Мам, что?
— Просто я тогда не понимаю, почему у тебя нет девушки.
Я пожимаю плечами.
— Мужчины не должны быть голубыми, Джо. Это не… — она пытается подобрать слово, — нечестно.
— Не улавливаю.
— Неважно.
Минуту мы едим в полной тишине, и это максимум, который моя мать может выдержать, перед тем как начать болтать снова.
— Я начала сегодня паззл собирать.
— Угу.
— Он был со скидкой. Двенадцать долларов вместо тридцати.
— Вот это сделка.
— Подожди, я тебе чек принесу.
Когда она уходит, я продолжаю есть, хотя знаю, что, даже если быстро все съем, это не будет означать, что я смогу быстро уйти. Смотрю на часы на микроволновке и на плите и сравниваю с теми, что висят на стене; ну, наперегонки, кто быстрее! Но и те и другие как будто застряли на месте. Мама недолго ищет чек, думаю, она специально положила его на видном месте, чтобы мне показать. Она семенит обратно с еще одной рекламкой. Сдерживаю восторг как могу.
— Видишь, двенадцать долларов.
— Ага, вижу.
На рекламке написано «битком набито удовольствием». Пытаюсь представить, что было в голове у человека, когда он это придумал. Или под чем он был.