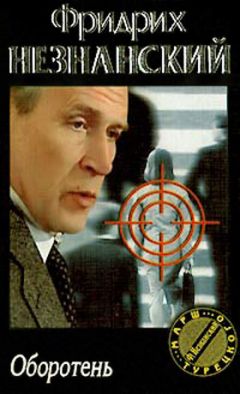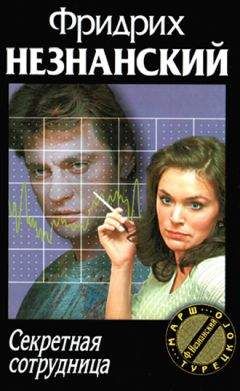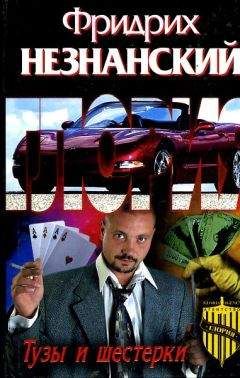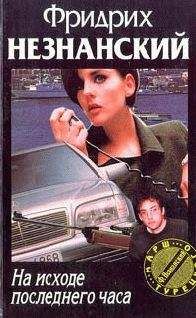— Тут, по-моему, Аркадий запаниковал, — покачал головой Грязнов. — Кто бы Максиму поверил…
— Не знаю, — покачал головой Моисеев. — Шантажисты обычно преувеличивают свои связи, тот вред, который они могут нанести… Максим, почувствовав, что Придорога у него в руках, возможно, запросил слишком много. Шантажисты вообще обычно плохо кончают.
— И все-таки тут Слава прав, Придогора запаниковал. Стал изымать кассеты с интервью. А на них ведь ничего не было. Разговор про Козочку не записывали. Это его первый просчет. Попытка отнять кассету у Саши — это что-то смехотворное. Он тем самым только еще больше усилил наши подозрения. Становилось очевидным, что убийство Ветлугиной связано с записью интервью с Петровсом. Нападение в Феодосии? Это, конечно, человек Кошелева. Все это были серьезные просчеты Придороги, хотя в Феодосии Кошелев, возможно, действовал сам — решил убрать следователя, который слишком уж интересуется Львом Борисовичем Голубом.
— А ведь Кошелева не он убрал, — задумчиво сказала Романова.
— Тут-то все ясно как день. Кошелева убрал Карелин. Ему, как сотруднику милиции, удалось узнать, что пришли пальчики Голуба из Кандалакши. И как только их обладателя установили, наш майор едет к Кошелеву в Москворечье, тот его впускает. Они спокойно о чем-то разговаривают, после чего Борис Германович стреляет ничего не подозревающему хозяину прямо в лицо. Арест Кошелева был для майора Карелина событием очень неприятным. Ведь Кошелев был единственным, кто знал доподлинно, КТО именно исполнял заказ на Алену.
— А также того, кто заказывал.
— А также его.
— Ладно, Костя, — Романова вдруг со звоном положила на блюдце чайную ложку. — Ты все тут нам очень хорошо рассказал, по полочкам разложил. А теперь ответь — что делать-то будем? Ты же сам понимаешь — доказательств-то у нас НИКАКИХ!
Все угрюмо замолчали, потому что Александра Ивановна высказала сейчас то, о чем каждый думал со вчерашнего дня.
У милиции не было ровным счетом никаких оснований, чтобы задержать Аркадия Петровича Придорогу. Не то чтобы доказать его вину, а даже задержать по подозрению. Если бы можно было оживить Кошелева и Карелина, восстановить линию заказчик — исполнитель… Но они были мертвы, мертвее не бывает.
— Так что же, неужели так и оставим? — спросил Турецкий, хотя и сам прекрасно знал ответ.
— А что ты предлагаешь?
— Не знаю…
— Проще всего подослать киллера. Снегирев как, еще в Москве? Намекнуть ему, что, мол, так и так… Это, кажется, единственное, что в наших силах.
— Ну уж нет, — покачал головой Турецкий.
Он снова задумался над тем вопросом, над которым билась когда-то Алена. Имеем ли мы право поставить себя выше закона? Вот сейчас, когда вина известна, но невозможно ее доказать в суде. И он снова сказал себе — нет, не имеем. Иначе нам никогда, за десять тысяч лет, не построить нормального цивилизованного, правового государства.
И поэтому Придорогу будет носить земля?
Да, поэтому.
Иначе бал будет править майор Карелин.
16.30
Ира вышла из метро и не торопясь направилась к дому. Синоптики каждый день предрекали грозу, однако июньская жара, словно в насмешку, отнюдь не собиралась спадать. Тем не менее Ире упорно казалось будто стоит глубокая осень. Так бывает, когда захватывает воображение книга, действие которой разворачивается совсем в другой сезон. Идешь по летней улице и вдруг, словно спросонья, удивляешься, почему не шуршат под ногами желтые листья и по асфальту не плетет ледяные кружева утренний заморозок. Однако никакой такой книжки Ира в последнее время не читала.
Ира шла по Фрунзенской набережной, и под ногами у нее шептали мертвые, как будто осенние, листья, а в прозрачном небе перекликались далекими голосами птицы. Что-то притронулось к ней, дохнуло в сердце несбыточным, поманило за уплывающим миражом… и кончилось. Пора просыпаться.
Ира вошла в подъезд, отперла ключом металлический ящик и привычно сунула руку за почтой. Вместо свернутой газеты ее пальцы натолкнулись на большой конверт из плотной бумаги. К конверту была приклеена гладкая бумажка с ее адресом и фамилией. Ни марок, ни почтовых отметок. Значит, кто-то зашел и просто запихнул в ящик. Что же там внутри: журнал со статейкой или фотографией какого-нибудь концерта? Нотная рукопись, подброшенная доморощенным гением композиции?
Мужа, как всегда, не было. Ира прошла на кухню и аккуратно вскрыла конверт. Там оказался пластиковый мешочек, но вместо журнала или нотной бумаги в него был завернут лист серовато-синего картона.
Рисунок не был завершен, но, если подумать, это его не только не портило, но даже придавало особенное звучание.
В другой руке Ира держала конверт, и, когда рука у нее задрожала, что-то выскользнуло оттуда и легонько брякнуло о линолеум. Она наклонилась и подобрала нитку лазуритовых бус.
Ни письма, ни даже маленькой записки не было. Впрочем, зачем?
Ира вздохнула и стала переодеваться в домашний халат. Потом снова взяла рисунок и пошла с ним к пианино. Открыла крышку, поставила лист на подставку для нот… и стала играть. Она не помнила ни композиторов, ни названий. Она играла музыку, долетевшую к ней через пустые гулкие бездны. Чистую, строгую. Прощальную.
Так, за пианино, и застал ее Саша, явившийся двумя часами позже. Когда он открыл дверь и услышал, что Ира играет, сердце у него екнуло. Опять!.. Потом до него постепенно дошло, что играла она с совершенно иным чувством, чем в тот памятный для него вечер. Ира прощалась.
С чем-то таким, чего, по сути, и не было.
Он на цыпочках заглянул в комнату. Ира обернулась, и он увидел слезы у нее на глазах. Потом он увидел рисунок, стоявший на подставке для нот, и сразу вспомнил уголок серо-синего картона, замеченный им в папке у Дроздова. Саша понял, кто был автором рисунка. И по чьей просьбе сделал его Вадим.
Саша подошел к жене. Ира оторвалась от клавиш, обняла, уткнулась лицом ему в живот и долго не отпускала. Он стал гладить ее по голове, по длинным пепельным волосам. Потом тоже обнял ее.
Шептали под ногами мертвые осенние листья, и птичий клин улетал все дальше, все дальше…
А потом все пошло своим чередом. Ужин, суп с фрикадельками, телевизор.
17.10
Снегирев вошел в вагон, разыскал свои места и на одно водрузил рюкзак, на другом устроился сам. Он смотрел через проход на Саньку и дроздовцев, явившихся его провожать. Пассажиры в основном уже расселись и ждали отправления. Он не знал, увидит ли еще когда-нибудь стоявших на перроне людей, но догадывался, что не у него одного сейчас глухо ныло в груди. Поезд плавно тронулся и поехал. Знакомые лица медленно поплыли назад. Алексей поднял руку, прощаясь. Потом повернулся к окну и стал смотреть на рельсы и привокзальные здания, все быстрее мелькавшие мимо.
Когда показалась Останкинская телебашня, он увидел позади нее клубящиеся грозовые облака.
«Как ты там на небесах, Аленушка?.. — мысленно спросил он погибшую журналистку. — Ты теперь, наверное, знаешь ответы на все вопросы. А я еще не знаю…»
От мелькания за окном у него начинала кружиться голова, поэтому время от времени он закрывал глаз.
«Тебе, наверное, все равно. И вообще ты этого не одобряешь. Но я за тебя расплатился, ты уж не сердись. Ту сволочь теперь в аду черти таскают…»
В пыльное вагонное стекло ударила и растеклась по нему первая капля.
«Вот так-то, Аленушка. Как там у вас на небесах насчет киллеров с идеями и без идей?.. Ты, наверное, давно всех простила. А я не могу…»
Алексей снова закрыл глаз и опустил спинку кресла. Все долги были отданы. Вадик с девчонкой завтра летят в Южную Африку, и там, в тени Столовой горы, их уже ждет потомок буров, свирепый седовласый старше ван дер Мерв. Господи, если Ты есть, сделай так, чтобы у них все было хорошо!..
Ира…
А меня забери, Господи. Что я тут делаю?..
…Бросить все к черту, уехать насовсем из страны? Алексей уже пробовал это и знал, что ничего у него не получится. Не усидит. Они там, в Европах-Америках, борща не жрут. Одни гамбургеры да кока-колу свою поганую, век бы ее не видать. Можно иметь дело с такими людьми?!
Снаружи мелькали сахарные глыбы Зеленограда, и Алексей, посмотрев в окно, снова зажмурился. Надо было срочно отвлечься. Он вытащил из рюкзака верный плейер, заправил в него диск, устроил поудобнее нещадно болевшую ногу и сунул в уши наушники.
Позабыт на мели, отлучен от родного простора,
Он не помнит былого, он имя утратил свое.
Где-то катит валы, где-то плещет холодное море,
Но ничто не проникнет в дремотное небытие.
Океанской волною бездонной печали не взвиться.
Не прокрасться по палубам серой туманной тоске.
Не кричат у форштевня знакомые с бурями птицы:
Только жирные голуби роются в теплом песке.
И лишь изредка, если все небо в мерцающем свете,
Если черными крыльями машет ночная гроза,
Налетает суровый, порывистый северный ветер
И неистово свищет по мачтам, ища паруса.
И кричит кораблю он: «Такое ли с нами бывало!
Неужели тебе не припомнить страшнее беды?
За кормой, за кормой оставались летучие шквалы,
Уступали дорогу угрюмые вечные льды!..»
Но не слышит корабль, зарастающий медленной пылью,
Не тонуть ему в море — он гнить на мели обречен,
И беснуется ветер, и плачет в могучем бессилье,
Словно мертвого друга, хватая его за плечо.
«Оживи! Я штормил, я жестоким бывал, своевольным.
Но еще мы с тобой совершили не все чудеса! Оживи!
Для чего мне теперь океанские волны,
Если некого мчать, если некому дуть в паруса?!.»
Но не слышит корабль. И уходит гроза на рассвете.
И, слабея, стихающий вихрь все же шепчет ему: «Оживи!..
Я оттуда, я с моря, я северный ветер!
Я сниму тебя с мели… сниму… непременно сниму…»
По стеклам неслись сплошные потоки воды. Там, за окнами, вовсю грохотал летний гром и бушевала, заливая дождем половину Московской области, первая гроза после долгой жары.