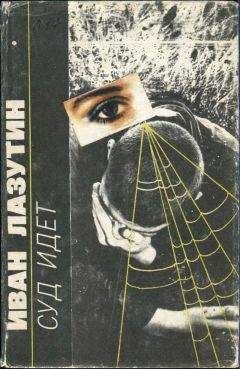Старшина Карпенко ответил своим неизменным «доброе здоровьице»; он стоял опершись плечом о косяк двери и курил. Гусеницин, не поднимая глаз, еще сосредоточеннее углубился в бумаги.
— Как дела, сержант? — подкручивая кончики усов, спросил Карпенко.
— Как сажа бела! — отозвался Захаров и, заметив, что лицо лейтенанта стало настороженным, подумал: «Вижу, вижу. Ждешь моего провала?»
— Ну как, уцепился за что-нибудь? — допытывался Карпенко, в душе желавший Захарову только добра.
— За воздух, — нехотя процедил Захаров, не спуская глаз с Гусеницина.
— Так ничего и не наклевывается?
— Пока нет.
— Да-а-а… — В протяжном «да» Карпенко, в его вздохе звучало и товарищеское сочувствие, и легкий упрек за то, что Захаров взялся за слишком уж сложное дело.
По лицу лейтенанта пробежала желчная улыбка. Закусив тонкие губы, он весь превратился в слух, хотя делал вид, что занят только своими делами.
Захаров, кивнув Северцеву, вышел из дежурной комнаты.
Вокзальный гул, монотонный и ровный, даже в этот ранний час напоминал гигантский улей. Гул этот Северцева угнетал. Трое суток, которые он провел в отделении милиции, показались годом. Бесконечные допросы, утомительные поиски кондукторши, нескончаемая вокзальная толчея, назойливо всплывающие в памяти картины ограбления — все это так измучило Алексея, что, будь у него деньги на билет, он, не раздумывая ни минуты, махнул бы на все рукой и уехал в деревню.
Может быть, Северцев уехал бы и без билета, если б не Захаров, который с первого же дня отнесся к беде его сердечно, дружески.
Алексей знал, что сегодня предстоит делать то же самое, что делали вчера и позавчера, — искать кондукторшу.
Первый и второй трамвайные парки были изучены. Оставался третий трамвайный парк.
Шофер синей с малиновой полоской через весь продолговатый корпус милицейской «Победы» только что заступил на работу и еще полудремал за баранкой. Когда Захаров резко распахнул дверцу кабины, он вздрогнул, его рука машинально опустилась на кнопку сигнала.
Дорогой в трамвайный парк Захаров снова расспрашивал Северцева о кондукторше, но сведения по-прежнему были куцы: пожилая, с громким голосом, в платке. На такие приметы ухмыльнулся даже шофер: почти вез кондукторши в ночную смену повязывают платки, а остановки выкрикивают громко.
В голову Захарова лезли тревожные мысли: «А что, если и здесь впустую? Что, если Северцев ее не признает?» У трамвайного парка он отпустил машину и вместе с Северцевым направился к проходной будке.
Вахтером в проходной был седобородый жилистый старикашка в стеганой фуфайке, быстрый и словоохотливый. Лицо его Захарову показалось очень знакомым. Пристально всматриваясь в него, он старался вспомнить, где же видел этого человека? Но чем сильнее напрягал он память, тем туманнее и расплывчатее становился образ того, похожего старичка, которого когда-то, где-то встречал. «Таких стариков в России тысячи», — решил Захаров, стараясь подавить в себе безотчетное, назойливое желание припомнить двойника вахтера.
Документы, предъявленные Захаровым, старичок изучал внимательно и с какой-то хмурой опаской. А когда уяснил, что перед ним человек из уголовного розыска, то заговорил с таким почтением, что сержант подумал: «Этот расскажет, этот поможет!»
Михаил Иванович — так звали старичка — долго тряс руку Захарова.
— Э-э, сынок! Да я, ечмит-твою двадцать, поседел в этой будке, тридцатый годок уже машет, как я здесь стою. Всех знаю, как свои пять пальцев. Явится новичок — биографию сразу не пытаю оптом, а потихоньку-помаленечку за недельку, за две он у меня как на ладони. И кто такой, и откудова, и про семью закинешь…
Захаров спросил у Михаила Ивановича, не помнит ли он, кто из пожилых женщин работал в ночь на двадцать шестое?
Михаил Иванович с минуту помешкал, достал из кармана большой носовой платок и громко, с аппетитом, высморкался.
— Не помню, так вспомню. Говорите, на двадцать шестое? Из пожилых? — старик смотрел в пол, что-то припоминая, и качал головой. — Только пожилых-то у нас порядком.
— А кто из них работает на прицепе из двух вагонов?
— Это смотря на каком номере. — Лицо старика стало еще строже.
— Номер трамвая не установлен.
— Это уже хуже, — протянул Михаил Иванович и, загибая пальцы и не обращая внимания на Захарова, стал называть фамилии пожилых кондукторш, работающих на прицепе из двух вагонов. Захаров быстро записывал. Их набралось шестнадцать.
— А не помните ли, кто из них в ночную смену повязывается цветным платком? — осторожно выспрашивал Захаров.
Михаил Иванович приложил прокуренный палец к жидкой бороденке и хитровато прищурился одним глазом, точно о чем-то догадываясь.
— Говорите, платок? Случайно не клетчатый?
Захаров посмотрел на Северцева: тот утвердительно кивнул головой. Михаил Иванович этого не заметил.
— Да, да, клетчатый, — ответил Захаров внешне спокойно и почувствовал, как сердце в его груди опустилось и несколько раз ударило с перебоями.
— Ну, ечмит-твою двадцать, опять неладно, — махнул рукой Михаил Иванович. — Опять Настя в карусель попала.
Михаил Иванович начал рассказывать о том, что знает Настю уже двадцать лет, и не было такого года, чтоб у нее чего-нибудь не случилось такого, за что ее не таскали бы по судам и прокуратурам.
Захаров слушал, а сам думал: «Ну где, же я тебя видел, где?»
Старик разошелся и углубился в подробности Настиных бед. Захаров, выбрав момент, мягко перебил Михаила Ивановича и спросил фамилию Насти.
— Фамилия ее Ермакова. — И видя, как внимательно его слушают, Михаил Иванович начал рассказывать, что живет Настя вдвоем с мужем, что сын в армии, а дочь уехала на Север, что Настя женщина хорошая, старательная, а все ей как-то не везет.
— Кто зазевается по пьянке, обязательно лезет под ее вагон. Обрезали сумочку с деньгами — Настю в свидетели. Летось новый начальник чуть было не перевел ее в подсобные, да спасибо на собрании отстояли. А то ходить бы Насте по территории с метелкой.
Взглянув на часы, Михаил Иванович спохватился. Было уже без двадцати пять.
— Сейчас того гляди закатится сама, сегодня она в первую смену.
Захаров понимающе кивнул головой и вышел из проходной.
— Я на минутку, — сказал он в дверях и взглядом позвал Северцева.
Этот немой язык следователя Северцев начинал понимать. У маленькой клумбы цветов, разбитой у самого входа в парк, Захаров и Северцев присели на скамейке.
— Следите внимательно за всеми, кто будет проходить в парк. Признаете ту, которую ищем, идите за ней через будку. Идите до тех пор, пока я не окликну.
Северцев кивнул головой. Когда Захаров скрылся в будке, он поднял с земли оброненный кем-то цветок. Знакомые запахи цветка на мгновение унесли его на родину, в покосы, в тихие деревенские вечера, напоенные сиренью и акацией, облитые лунной голубизной.
Тем временем Захаров вернулся к Михаилу Ивановичу и попросил его, чтобы он подал знак, когда войдет Ермакова.
Михаил Иванович, гордый и точно подросший от того, что ему, как ровне, доверяют свои тайные дела люди из уголовного розыска, важно крякнул и понимающе — дескать, нам все ясно — провел ладонью по бороде.
Вскоре потянулась утренняя смена.
Каждому, проходившему будку, Михаил Иванович находил свой знак внимания. Одному с почтением и молча поклонился, у другого спросил о здоровье жены, третью, молоденькую рыжую девушку с озорными глазами, назвал вертихвосткой, а когда та стала оправдываться, он замахал рукой: «Иди, иди, не хочу и слушать». Четвертую, тоже молоденькую девушку, поманил к себе пальцем и на ухо сказал: «Видел, сам все видел. Кто вчера по Оленьим прудам с другим под ручку разгуливал? Все расскажу твоему Санечке. Ох, девка, влетит тебе…»
Минут через пять народ повалил валом. Захаров уже устал всматриваться в лица и одежду проходящих. А Михаил Иванович все сыпал и сыпал не уставая. Свое излюбленное «ечмит-твою двадцать» он так ловко вворачивал при подходящем случае, что казалось: выбрось из его речи это не то междометие, не то поговорку, и все сказанное им лишится крепости, смысла и рассыпется.
— Ну как, Настенька, что дочка-то пишет? — спросил старик вошедшую женщину и многозначительно взглянул на Захарова.
— Ой, Михаил Иванович, у кого детки — у того и забота. Уехала и как в воду канула. Ведь это нужно — за два месяца только одно письмо!
— Да, что и говорить, — сочувственно поддержал Михаил Иванович, — с малыми детками горе, с большими — вдвое.
За спиной Ермаковой стоял Северцев.
«Она, она!» — пронеслось в голове Захарова. Почти не дыша, слушал он разговор женщины с вахтером. «Держись, Гусеницин Хведор. Рано ты записал меня в пораженцы. Конец клубка в моих руках», — думал сержант. И вдруг эти мысли оборвались. На смену им пришли другие. Перед ним была не ехидная и хитроватая улыбка Гусеницина, а вставало властное и по-отцовски строгое лицо майора Григорьева: «Работай не из чувства мести к Гусеницину, а для пользы дела. Помни свой долг». — Как он смел забыть об этих словах? Как он смел ликовать только из-за того, что покажет Гусеницину, как нужно работать? «Неужели только месть? Неужели только оскорбленное самолюбие говорит во мне?» — сам себя спрашивал Захаров. Посмотрев на Северцева, он увидел, что лицо у него было напряженное и бледное. С такими лицами на иконах рисуют великомучеников.