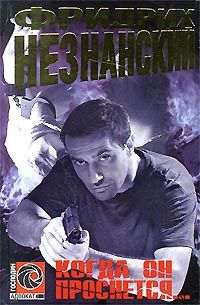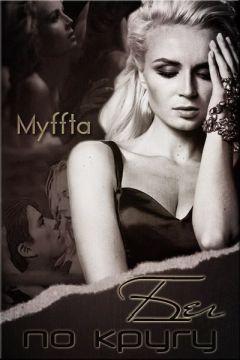Возле дома столпилось не меньше пятидесяти репортеров – машинам не хватало места в небольшом тупике рядом. Когда мы с Гуннаром выбрались из его старенькой «Вольво», журналисты ринулись к нам. Они совали камеры и микрофоны прямо мне в лицо и выкрикивали вопросы:
– Вы верите в виновность Самира?
– Что вы можете сказать о Ясмин, о состоянии ее психики?
– Ходят слухи, что Самир употребляет наркотики, вы можете это прокомментировать?
– Вы знали о том, что Самир – мусульманин, когда выходили за него замуж? Он настаивал на том, чтобы вы сменили веру?
Гуннар оттеснил их в сторону, пояснив, что комментариев у меня нет и я хотела бы, чтобы меня оставили в покое и уважали мое решение. Он положил руку мне на плечо и аккуратно провел к двери. Войдя в дом, он, ругаясь себе под нос, прошел по всем комнатам, опуская на окна рулонные шторы и жалюзи и задвигая занавески.
– Совет, – сухо произнес он, вернувшись в кухню. – Не давайте никаких комментариев, не отвечайте ни на какие вопросы. У вас, конечно, есть право обсуждать эту ситуацию с кем вы сочтете нужным, но если хотите сохранить частную жизнь, сохранить какую-то жизнь, вам следует отказывать в беседе всем репортерам без исключения.
Гуннар стоял у плиты, и я впервые взглянула на него с любопытством. Кто же он такой? Я почувствовала симпатию к этому доброму полицейскому с голубыми глазами. Не в том смысле, разумеется. Но на Гуннара я могла положиться и в его обществе чувствовала себя вполне сносно, хоть мы с ним и не были в одной лодке.
«Кто знает, Гуннар Вийк, – подумалось мне. – Кто знает, что могло бы быть в другой жизни».
– Чаю? – спросил он.
– Да, спасибо, – отозвалась я.
Он налил воды в кастрюлю и поставил ее на плиту. Достал из буфета чашки и уже потянулся за коробкой с чайными пакетиками, которая стояла возле дровяной плиты.
– Его посадят? – спросила я.
Гуннар озабоченно наморщил лоб и кашлянул.
– Мы даже не знаем, будет ли возбуждено уголовное дело. И мне не следует вести разговоры на эту тему.
Он разлил кипящую воду по чашкам. Пар, валивший от кастрюли, поднимался к потолку.
– В особенности с вами, – добавил Гуннар, и на его лице мелькнуло слабое подобие улыбки.
– Прошу прощения, я не хотела…
Он успокоительно поднял ладонь:
– Ничего страшного.
Гуннар вручил мне чашку, сел напротив и молча окунул чайный пакетик в воду. Гул голосов снаружи постепенно стихал, по очереди заводились моторы, и репортеры разъезжались.
– Они вернутся, – сказал Гуннар. – Просто отвечайте им, что не станете ничего комментировать.
– А если я так и сделаю, они перестанут о нас писать?
Гуннар заерзал на стуле.
– Нет. Но данный конкретный репортер в данный конкретный день, вероятно, от вас отстанет.
Я задумалась над его словами. Взгляд мой упал на наше с Самиром свадебное фото, и живот тут же скрутил спазм.
– Не могу в это поверить, – проговорила я. – Не могу это принять.
Гуннар откинулся на спинку стула и покосился на сдвинутые гардины.
– Нам кажется, что мы знаем тех, кого любим, – сказал он. – И это естественно. Но порой самые большие секреты оказываются как раз у самых близких людей.
– Я не хочу в это верить. Я хочу верить, что Ясмин просто сбежала, это было бы очень на нее похоже.
– Хм, – промычал Гуннар, шумно отхлебнув горячего чаю.
– Вдруг она найдется, живая и здоровая, где-нибудь в Париже или на Ибице, она очень хотела там побывать.
– Она мертва, Мария. Чем быстрее вы смиритесь с этим, тем лучше. Технические улики не врут. Все ее вещи на месте, и паспорт остался дома. Более того, мы проверили списки пассажиров всех рейсов, вылетевших из Стокгольма в следующие после исчезновения сутки, и Ясмин среди них не было.
– И все равно. Ничего не сходится. Самир не такой. Он не агрессивный и не подозрительный. А вдруг кто-то намеренно хочет засадить его за решетку?
– И кто бы это мог быть?
Во взгляде Гуннара читалась необычайная усталость.
Я задумалась, грея замерзшие пальцы о горячую чашку. Никогда в жизни я не мерзла так сильно, как той зимой.
– Не знаю. У Ясмин раньше был приятель, Пито. Его осудили за наркоту, но мне кажется, нет, я даже уверена, что они продолжали поддерживать контакт.
Я вспомнила о записке с телефонным номером, выпавшей из сумочки Ясмин перед тем, как они с Самиром поехали в «неотложку».
– Раньше вы этого не упоминали.
– Я об этом не подумала.
Гуннар ничего не ответил, только внимательно на меня посмотрел.
Когда он ушел, я рухнула на кровать и уставилась в потолок. С плинтуса над моей головой свисали тонкие паутинные нити, покрытые пылью. Они трепыхались на сквозняке из плохо законопаченного окна. На часах было всего восемь, но у меня уже ни на что не было сил. Да и делать было нечего – Винсент гостил у мамы и раньше девяти не должен был вернуться. Снаружи завывал ветер, и маленькие твердые снежинки время от времени постукивали по стеклу.
Без Самира кровать казалась странно пустой и холодной. В комнате было тихо, а без него тишина стала такой пугающей!
На тумбочке остались лежать его книжка о Второй мировой войне, как и его очки для чтения, одна дужка которых была неуклюже обмотана клейкой лентой. Одежда была перекинута через спинку стула, стоявшего в углу.
«Что я буду делать со всеми вещами Самира, если его осудят на длительный срок? А что мне делать с вещами Ясмин? – думала я. – С едва прикрывающими попу юбками, с откровенными топами кричащих оттенков, с тоннами косметики? Все это нужно будет выбросить? Но отважусь ли я?»
Еще я думала о Самире – как он там, в камере. На него были наложены ограничения, суть которых разъяснил мне Франц Келлер, адвокат, чье имя звучало, как марка швейцарского шоколада. Самиру не было позволено встречаться ни с кем, за исключением своего представителя.
Даже со мной. Словно я тоже была подозреваемой.
Какова же была моя роль во всем этом? Я – жертва?
Несчастная женщина, ее муж убил собственного ребенка, а она даже ничего не заподозрила.
В моих ушах эхом звучали мамины слова:
Вдруг его происхождение сыграло какую-то роль? Его арабские корни.
Что, если она права? Что, если потребность контролировать женщин – даже собственную дочь – у него в крови? Что, если происхождение Самира наложило отпечаток на его систему ценностей и продолжало оказывать на него сильное влияние, несмотря на то, что он вырос в светской семье, учился в одном из самых передовых университетов Европы и переехал на жительство в такую очевидно далекую от набожности страну, как Швеция?
Я старалась припомнить хоть один случай, когда Самир впадал в агрессию или выражал консервативные взгляды, но не смогла. Не было даже признаков подобного. Я помню слегка небрежного, дурашливого, обаятельного мужчину, который любил петь и готовить еду. Преданного своему делу ученого, который болел душой за науку. Ценителя жизни, который иногда мог выпить лишку, а по утрам с трудом просыпался. Страстного любовника, который не мог дождаться лета, потому что ему не терпелось снова искупаться «по-шведски» и поесть этих отвратительных колбасок-гриль, в которых одни хрящи да панировка.
В то же время определенные моменты меня настораживали, но о них я совершенно не хотела думать.
К примеру – почему после исчезновения Ясмин Самир вел себя так пассивно? Почему не обзвонил всех ее друзей в ту же ночь?
Если бы речь шла о Винсенте, я бы именно так и поступила.
Потом я вспомнила, как он сидел в кресле с Кораном на коленях. Был ли в этом какой-то скрытый смысл? Был ли Самир, несмотря ни на что, религиозен? Быть может, я и не подозревала, что он – фундаменталист?
А еще взять тот случай, когда Ясмин споткнулась и рассадила губу. Они с Самиром тогда беспрерывно скандалили. В самом ли деле она упала или они снова поругались и Самир, потеряв самообладание, ударил ее? Может быть, потому он был так зол, когда мы с Винсентом вернулись домой? Может быть, потому он даже не хотел везти ее в больницу?