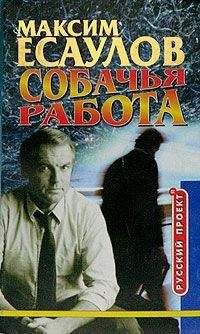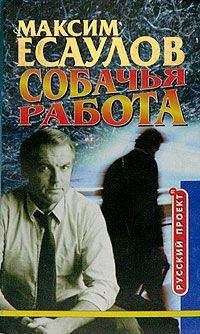– Спокойно, Женя. Рассказывай.
– Мне бы сперва кофейку. Или водки.
Шилов пересел за руль. Выехал со двора, через два квартала остановился у круглосуточного бистро.
– Пошли?
Джексон кивнул и тяжело выбрался из «Фольксвагена».
– Как ты его, кстати, открыл? – спросил Шилов, запирая двери.
– Молча, Рома, молча. По сравнению с мировой революцией это такая херня…
Шилов мысленно матюгнулся. Вопрос про машину был действительно не самый своевременный и удачный.
В бистро они взяли кофе, двести граммов водки и пиво. Кофе пил Шилов. Джексон – вперемешку все остальное.
Рассказ не был долгим.
– Рома, понимаешь, у меня выхода другого не было!
– Не переживай. Кальян просто так убирать не будет. Наверняка урода какого-то замочил.
– Ствол у него был. В руке держал.
– Вот видишь, считай, самозащита. Злодея завалил.
– Узнать бы, кого.
– Будет сводка – узнаем. Кальян прибираться не будет, ему для шантажа нужен труп и уголовное дело. Адрес помнишь?
– Примерно. Может, найду, может, нет. Темно было. Да и я…
– Не нравишься ты мне, Жека. Давай, бери себя в руки. О деле думай.
Джексон поднял кружку с пивом, сделал несколько смачных глотков.
– Думать не могу. Ты скажи, я сделаю.
– Ждать ценных указаний от Кальяна. И продолжать запой.
– С запоем проблем не возникнет… А вот Кальян – хрен его поймешь, Рома. Он не так прост, каким кажется. Он на два фронта играет. И нигде правил не соблюдает.
Джексон допил пиво и раздраженно отодвинул пустую кружку:
– Знаешь, Рома, все-таки тошно у меня на душе…
– Это потому, что душа есть. Не боись, Жека. Помнишь, как в песне: «Бог обещал нам простить все сполна, когда закончится война».
– А она, ты думаешь, кончится?
Приехав на работу, Роман быстро провел совещание и остался в кабинете один. Сидел, курил. Иногда смотрел на портрет Соловьева в траурной рамке. Иногда брал чистый лист и принимался рисовать какие-то схемы, обозначая взаимоотношения фигурантов, имеющиеся доказательства и возможные мероприятия. Схемы оставались незавершенными. Шилов рвал бумагу и снова задумывался.
Вошел Громов:
– Здорово. Дай закурить.
– Вы же бросили, Юрий Сергеевич.
– Бросишь тут с вами… Ага, спасибо.
– Как там с моей «наружкой»?
– Уже работают. Установят твою дамочку, так что не переживай. Доложат лично мне. Ну а ты давай выкладывай.
– Про что?
– Про военных, про Кальяна, про Василевского. Про все.
– Мне б кто доложил. Одни осколки. – Шилов потер подбородок. – Вы же письмо Ремезова читали…
– Хочешь сказать, что, кроме того письма, у тебя ничего больше нет?
– Я же говорю, одни осколки. Получается так, что эти трое ребят сбежали из части, не желая выполнять приказы командиров, которые поставили «мокрухи» на поток. Их убивают, причем в случае со «скорой» работает взрывник, который работал еще с Карташовым. Умеет же эта паскуда машины взрывать… – Шилов посмотрел на фотографию Соловьева.
– А Бажанов здесь при чем?
– Полагаю, что покойный Карташов замыкался на него в Москве. К тому же Бажанов бывший гэрэушник и может быть связан с военными.
– Подробнее, Рома, подробнее.
– Юрий Сергеич, я, и правда еще не во всем разобрался. – Шилов невольно покосился на горку разорванных бумаг с незавершенными схемами. – Чувств много, а ясной картины никакой.
– Я тут в Москву еду, на доклад к замминистра. Постарайся перед этим перейти от чувств к мыслям. Ты же, в конце концов, руководитель.
– Это-то и мешает, – вздохнул Роман.
Только Громов ушел, как появился Егоров. На «сходке» его не было, он прямо из дома поехал в больницу навестить Василевского.
– Ну чего, как там Ленька?
– Получше. Коньяку требует.
– Значит, скоро поправится. Он ничего нового не вспомнил? Может, эта баба ему все-таки что-то сказала?
Егоров отрицательно покачал головой:
– Никакой конкретики. Все то же самое, что мы от местных пьяниц узнали. Но, я думаю, она могла что-то сказать. Поэтому ее и спровадили на Урал. Только зачем было на Леньку нападать? Хотели нас предупредить, чтоб не совались?
– Вряд ли. Узнали, что он мент, и психанули. Эксцесс исполнителя. Может, этих «разбойников» командиры сами уже наказали. Не удивлюсь, если ствол и ксиву подкинут.
– Хорошо бы, если б так…
* * *
Деревянный дом Прапора занимал участок возле дороги на самой окраине Гатчины. Дом не отличался архитектурным изяществом, но был, что называется, справным – каким и положено быть у хозяина, много лет отслужившего на тыловых и хозяйственных должностях.
Доедая завтрак, Прапор привычно грызся с женой. Повод для ругани был, правда, нетипичным – за десять лет супружеской жизни им еще не доводилось попадать в такой переплет между бандитами и ментами. Зато все остальное – аргументы, оскорбления и угрозы – использовались многократно.
– Зря мы во все это ввязались.
– Лучше бы я сидел, да?
– Лучше бы я тебя вообще никогда не встречала.
– Это уж точно. И где тогда мои глаза были?
– Олеженьку жалко. За что ему достался такой отец?
– Молчи, дура.
– Нет, ты мне скажи, ты о сыне подумал, когда…
– Нина, ради бога, не выводи. Вот чего ты от меня сейчас хочешь услышать?
– Хочу услышать, как мы жить дальше будем. Со службы уволили, под статьей ходишь…
– Из этого дурдома давно пора было увольняться. Что я, места на гражданке не найду?
– А что ты делать умеешь?
– Федор обещал пристроить.
– Да у него таких придурков, как ты, пруд пруди. Очень ему еще один нужен! Вот получим деньги, я Олега заберу и уеду.
– Ну-ну… Куда ты, на хрен, денешься?
Ругань могла бы продолжаться и дальше, но поджимало время: Нине пора было вести сына в садик, а потом ехать на работу. С гордо поднятой головой она вышла из кухни, позвала Олега и вскоре хлопнула дверью, не попрощавшись с супругом.
Прапор усмехнулся, достал из кармана засаленную бумажку с номером телефона и, вслух проговаривая цифры, позвонил:
– Алло, Федор? Здравия желаю, это Михаил. – Прапор сделал короткую паузу и откашлялся – как ему казалось, солидно, а на самом деле до неприличия подобострастно. – Как там насчет денег? А если на очной ставке он меня застрелит? Ладно, только все бабки мне. С женой я сам разберусь.
Не успел он положить трубку, как в дверь позвонили.
– Опять, что ли, ключи забыла? – Прапор допил чай и пошел открывать.
Открыл и сразу получил удар в глаз, от которого пролетел половину прихожей и шлепнулся на пол.
Спокойно, по-деловому, в дом вошли Паша, Молчун, Лютый и Топорков. Паша присел на корточки, остальные встали вокруг Прапора полукругом. Ошалело помотав головой, Прапор попробовал встать – и получил от Паши такой тычок в грудь, что перехватило дыхание.
– Я пожалуюсь в УСБ!
Никто не ответил. Молчун достал пистолет и начал присоединять к нему глушитель. У Прапора расширились глаза, когда он разглядел, что это не табельный «ПМ», а ободранный, многократно бывавший в деле «ТТ».
– Я в прокуратуру напишу, – следя за тем, как глушитель накручивается на ствол, неуверенно пригрозил Прапор.
Топорков стал надевать резиновые перчатки. И тоже молча.
Такого быть не могло.
Такое бывало в книгах и фильмах, но чтобы в жизни… Да они что?..
– Я вас всех посажу на хрен, – сказал Прапор, не слыша своего голоса.
Молчун звонко передернул затвор.
Топорков протянул к нему руку:
– Дай, моя очередь.
– Не ври, ты в прошлый раз был.
– А может, по-тихому? – Лютый вытянул из кармана удавку со свинцовыми грузиками на концах.
Прапор закрыл глаза.
Когда открыл, картина не изменилась.
– Хватит, он мой, – сказал Паша, и Молчун подал ему пистолет:
– С этим трудно поспорить.
Паша приставил ствол ко лбу Прапора и взвел курок. Негромкий щелчок отозвался в голове Прапора взорвавшейся бомбой.
– Гриша, включи телевизор погромче, – попросил Паша, и Лютый уверенно проскользнул мимо лежащего Прапора в кухню, где бормотал маленький «Грюндик».
Прапор заорал. Разинул пасть и закричал что есть мочи:
– А-а-а, спасите, а-а-а!!!
Паша двинул Прапору в солнечное сплетение, отчего тот задохнулся и орать перестал, потом воткнул ему в рот ствол.
– Гриша, я же просил! Ты чего, в кнопках разобраться не можешь?
Звук телевизора стал нарастать. Диктор что-то бубнил про политику.
– Заканчивай, Паша. Нам еще по второму адресу ехать, – напомнил Молчун.
Кричать Прапор не мог, но завыть у него получилось.
В то же время, как он ни был раздавлен страхом, но полностью соображать не перестал. Догадаться, что это спектакль и что всерьез убивать его не собираются, он не смог, слишком уж натурально все было разыграно. Но почувствовал, что можно попробовать сторговаться. Он ведь занимался этим всегда и везде, может, и сейчас выгорит?