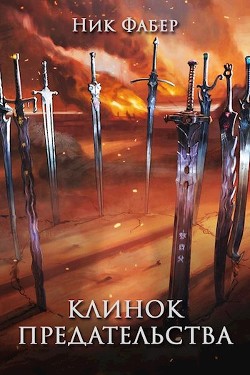в ладонь, и наоборот. Перестал пускать слюни.
В один прекрасный день, с которого началась череда по настоящему радостных моментов – меня вывели на улицу. Пара санитаров, не пользуясь наручниками, под руки вывели меня на площадку, видимо, предназначенную для прогулок – что-то наподобие аллеи – и я просто дышал. Дышал этим свежим воздухом. Видел эту зелень, это солнышко.
Но, как известно, хорошего по-немногу, и меня вновь возвращали в свою слепую камеру, где я вновь дичал. Дичал почему? Да потому что в том месте, наверное, было бы предпочтительнее оставаться овощем, чем быть человеком в сознании.
Послушай, Карл. Ты помнишь “записки из мёртвого дома”? Да, ты не мог забыть Достоевского. Так вот там ГГ указывал на то, что будучи заточенным рабом в каторжном лагере, на протяжении десяти лет сотни заключённых настолько отвыкли быть наедине с собой, что можно было сойти с ума, представив то безумие, которое сопровождало их жизнедеятельность.
Так вот я напомню тебе, Карл, что нет никакого безумия хуже, чем день за днём, находясь в ясности рассудка, наблюдать за собственной деградацией также, как за зашпаклёванной стеной твоей камеры. Быть лицом к лицу с обсуждением того, что ты пережил, и тех представлений, что, как ты думал, соответствовали твоему будущему. Потому как ничего другого твоему разуму не доставалось.
И я не позволю тебе, дорогой, забыть всё то, что ты здесь пережил, потому что ты – всё, что у меня осталось.
Ни матери, ни отца, ни сестры – никого я не увидел за все эти годы, за которые меня болтало по этапам этой красивой «рекреационной» системы.
Нет ничего хуже одиночества”
Томас встал из-за стола, бросил на него оставшиеся листы перевода и вышел из уже чужого кабинета, наплевательски оставив его открытым – этаж был пуст.
Оказавшись на первом, он приблизился к стеклянной двери главного входа – коснувшись её поверхности ладонью, он впервые за несколько лет задумался о сигарете. Но желание закурить оказалось слабее, чем стремление избежать того прошлого, чем его жизнь была запятнана ранее.
Томас подошёл к перилам, тяжело облокотившись на них, и посмотрел в сторону Дона – на улице штиль, поверхность воды ничуть не содрогалась возможным ветреным порывом.
Слова автора дневника, того самого Карла Радищева, что был небольшими усилиями отправлен на «исправление» врачами-психиатрами, об одиночестве, довели разум Томаса до, если так можно выразиться, обратного эффекта «стокгольмского синдрома».
Жалеет ли Томас о том приговоре?
Ничуть – ведь он справедлив. Убийца должен был быть наказан.
Но Тому нужна была не справедливость, а месть. А с чего берёт начало эта жесткость, с которой Томас смотрел на Карла в тот момент, как признанного виновным уводили из зала суда после огласки проведения психиатрической экспертизы?
Желал ли Том Карлу мучений? Да, безусловно. Но того, что, по словам самого парня, он пережил там, Томас не желал ему.
За столько лет отчуждения от своего прошлого он понял, что вся причина его предыдущих взглядов таилась в беспощадном детстве – Карл заговорил об одиночестве, и что можно было бы ожидать от переживающего подобное?
– То, что и случилось, – тихо проговорил Том.
“В этом-то и заключался минус твоего «возрождения». Вслед за улучшением физиологического состояния пришло ухудшение психологической составляющей. Но зато я, в отличие от их всех, научился слушать себя. И вряд ли нейролептики заберут у тебя этот опыт.
Но это, пожалуй, стоит опустить, потому как следующим положительным моментом являлось то, что меня перевели в третий пункт моего путешествия – радостный курорт Филиппа Оррегана.
Как только меня впервые, по-человечески, не связывая и не бросая на грубую поверхность отсека для заключённых внутри перевозящего автомобиля, перевезли и вытащили из машины, я взглянул в щель ограды, окружающей территорию моего нового дома – увидел зелёный, цвета самой яркой жизни газон, что простирался между дорожками того пространства, которое, как я выяснил дальше, было предназначено для прогулок не подающих тревоги пациентов.
Меня завели в приёмный покой. За столом, напротив здоровенного монитора и медсестры, сидящей за ним, развалился приятной наружности человек в белом халате. Как только полицейские посадили меня на стул около входа в помещение, «безликие» передали пачку бумаг (видимо, по мне) дежурному, и тот, нацепив очки на свой «картофельный» нос, пробежался глазами по всем страницам, что оказались перед ним.
– Что ж, Карл, добро пожаловать в нашу клинику. Здесь не такие условия как были в Уитни – там, уж конечно, мёдом не мазано – уверяю, здесь тебе понравится.
Я безучастно глядел на него, испытывая непонятное присутствие волнения – то ли от странных вопросов, что мне он задавал (содержание, увы, вылетело из головы, но отчётливо помню то замешательство, в которое этот врач вгонял меня), то ли от запаха, что стоял здесь (я заметил его как только покинул покой). Но, скорее всего, это был страх неизвестности, хотя, я как сейчас помню, его слова внушали доверие.
После беседы с этим врачом я был передан в руки сотрудников отделения, и парой санитаров (о Боги!) я был сопровождён в ванную комнату, где меня оставили наедине с собой, дав новый комплект одежды, банку шампуня и пены, тупое бритвенное лезвие и полотенце.
Надо мной будто бы насмехались – я испытывал ощущение, вызванное прямо-таки контрастной разницей между моим предыдущим «домом» и этим местом.
Я набрал ванную, заткнув слив плотным комом сжатых бумажных полотенец, пакет с которыми висел над раковиной, справа от зеркала.
Настоящая горячая ванна!
У меня руки дрожали, и не понятно – то ли от нейролептиков, то ли от радости.
Насидевшись в кипятке, я затёр себя до дыр, после чего ещё и побрился – кстати, у меня действительно лицо было покрыто каким-то подобием бороды – я совсем забыл об опрятности, что, в принципе, неудивительно – последнее, о чём задумывается пациент, находящийся под подобным «лечением» – это гигиена.
Впервые за долгое время взглянув в зеркало, я ужаснулся собственному виду – будто бы передо мной было отражение тридцатилетнего старика. Пускай выглядел я очень живо, но я заметно похудел – мои щёки впали, обнажив скулы, нос сузился, надбровная дуга тоже. Стали заметнее выступать ключицы, без натягиваний кожи можно было подсчитать рёбра.
Не став долго наблюдать за изменениями собственного тела, я надел мягкую пижаму, носки и белые тапочки, после чего постучал в дверь, и её открыли.
Далее братья проводили меня через открытый коридор на улице, ограждённый сетью и колючей проволокой. Солнце было в зените.
Пускай