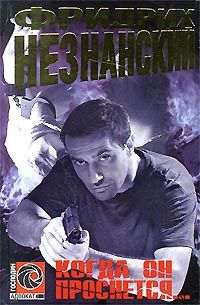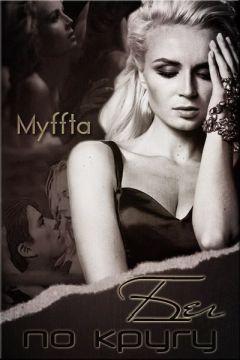– Вы сделать что? – еле слышно, шепотом повторил он.
Не помню точно, что я лепетала в свое оправдание – наверное, что Том заставил меня, что я находилась в состоянии шока, что она была уже мертва, когда мы столкнули сани в прорубь.
Разве это еще могло иметь какое-то значение?
Могло ли вообще что-то теперь иметь значение?
– Девочка моя, моя плоть и кровь, – всхлипывал папа. – Как же так? Разве так я тебя воспитывать? Разве я не объяснять тебе, что человеческая жизнь – нет цена?
Я больше ничего не чувствовала, внутри меня были только холод и пустота. Но признание принесло облегчение – я разделила с папой свою ношу, и мои проблемы стали теперь и его проблемами.
Папа принялся рыться в сумке Паолы, и когда среди прочих вещей он обнаружил фото малышки в надувных нарукавниках, то не выдержал и громко заплакал.
– Я звонить полиция, – всхлипнул папа.
– Нет, нельзя! Том убьет меня, в самом деле убьет! И я не хочу в тюрьму! Пожалуйста, папа, пожалуйста…
За дверью послышались шаги, а потом раздался звук ключа в замке. Через несколько секунд, не сняв ни куртки, ни ботинок, на пороге кухни возникла Мария. Из прихожей раздался голос Винсента.
– Что случилось? – выдохнула она.
* * *
Да, все началось с Тома.
У него была какая-то патология, с ним что-то было всерьез не так. Он был параноиком, вечно чувствовал себя обделенным, униженным и оскорбленным, и единственным способом, которым Том пытался справиться с этими чувствами, стало насилие. Но для меня это не может служить оправданием – я в высшей степени причастна ко всему, что произошло в тот вечер. Если бы только я положила этому конец раньше, если бы отважилась порвать с Томом или хотя бы попросить помощи, Паола до сих пор была бы жива. И где-то на другом конце света одна семья не лишилась бы дочери, сестры и мамы.
Когда в ту ночь папа привез меня из больницы домой, он сказал вслух то, о чем я уже успела подумать.
– Ты такая юная, Ясмин. Такая юная, но жить так, словно смерть наступать тебе на пятки.
47
Была суббота, шестнадцатое ноября тысяча девятьсот девяносто шестого года.
Мама, Сильви и я возвращались домой с танцевального концерта. Танцевала Сильви, не я. Из нас двоих талант был только у нее – она была чудо-ребенком и уже в пятилетнем возрасте танцевала, приковывая очарованные взгляды телеаудитории.
Мама с папой собирались отдать ее в танцевальное училище.
До того, что может вырасти из меня, в то время никому не было дела.
Сильви было двенадцать, и мне кажется, что она еще всерьез не задумывалась, кем хотела бы стать – что можно знать в двенадцать? Но танцы она любила. А ее тело словно было создано для классического балета – миниатюрное, мускулистое и гибкое. В моем теле не было ни единой музыкальной клеточки, и такой гибкой, как Сильви, я тоже не была – не могла сесть на шпагат или завязаться в узел. Да и не хотела, чего уж там. Мне казалось, что это бессмысленно. Я предпочитала сидеть в своей комнате над уроками – в школе я хорошо училась – или тусить с девчонками, сплетничать о мальчишках и слушать музыку.
Сильви сидела на переднем сиденье, рядом с мамой, все еще в концертном костюме и гетрах. Черные волосы ее были собраны в тугой узел и подколоты множеством шпилек.
На улице было темно и пасмурно, движение было плотным и агрессивным, как частенько случается в Париже. Стоявшие вдоль обочин фонари проносились мимо нас – мигнув, исчезали позади. Эти вспышки освещали лица мамы и Сильви, делая их мимику обрывочной, словно в немом кино.
– Ты сегодня потрясающе танцевала, – перестраиваясь в другой ряд, сказала мама Сильви.
В ее словах не было лести – только констатация факта. Выступление Сильви и впрямь было завораживающим и поразительным.
Мама прибавила газу, так что меня прижало к сиденью. Чехлы были пластиковые, поэтому подголовник в том месте, где я прошлым вечером пролила колу, стал немного липким.
– М-м, – промычала Сильви, запихивая в рот кусок шоколада.
После выступлений она всегда получала сладости. Против этого не возражала даже я – ведь в обычные дни Сильви соблюдала строгую диету, потому что танцорам нельзя толстеть.
– А у меня пятерка за контрольную по математике, – вклинилась я в разговор.
– Поздравляю, – ответила мама. – Папа обрадуется. Мы отметим это, когда вернемся домой.
Вдруг послышалось какое-то гудение, которое сразу превратилось в рев. В следующий миг справа нас обогнал мотоцикл, несколько раз вильнул впереди, но удержал равновесие и поехал дальше по правой полосе – обгонять следующее авто. Красный огонек его заднего фонаря исчез в темноте, и звук мотора затих.
– Боже мой, – пробормотала мама, – как можно так водить.
Мама бросила взгляд на Сильви, в ее глазах читалась тревога.
Мама не любила водить. Она говорила, что все французы водят, как угонщики, и что ездить по улицам Парижа – значит подвергать себя смертельной опасности. Папа обычно поднимал ее на смех, говоря, что она боится всего и что так жить невозможно.
– Кто живет в страхе – тот вовсе не живет, – говорил папа.
Я была с ним согласна, и Сильви тоже.
Чего там можно бояться?
– Ну что, на следующей неделе едем покупать тебе ту куртку? – спросила мама, обернувшись к Сильви. – Становится по-настоящему холодно.
– М-м.
– Мне тоже нужна куртка, – вставила я.
Да, я немного ревновала к младшей сестре. Мне сложно было пережить, что ей достается столько внимания, и не давало покоя ощущение, что все в нашей семье вертелось вокруг Сильви.
Красавица Сильви, умница Сильви. Ты далеко пойдешь, Сильви.
– И тебе куртку тоже поищем, – согласилась мама и мигнула фарами с трудом преодолевавшему подъем в горку дальнобойщику, предупреждая, что собирается его обогнать.
– Сильви можно отдать мою старую куртку, если вы купите мне новую, – предложила я.
– Не нужна мне твоя уродская старая куртка! – возмутилась Сильви и обернулась ко мне, поправляя золотую сережку в виде дельфина. Потом она как бы случайно высунула изо рта кусочек шоколада. На лице Сильви расцвела вредная, почти злая улыбка. Но разве не так обычно ведут себя сестры? И я вряд ли была лучше – тоже принималась дразнить ее, едва мне выпадала такая возможность.
Балетная мартышка. Косолапая. Ты такая мелкая, что тебя ни один парень не заметит. У тебя уши торчком. У тебя уродские ступни. У тебя ногти на пальцах ног желтые.
– Я тоже хочу попробовать, – сказала я и потянулась к упаковке с шоколадками, которую Сильви держала на коленях.
– Кончайте, – велела мама, перестраиваясь в левый ряд.
В ее голосе не было злости, только усталость.
Мы преодолели подъем, и дорога начала спускаться вниз. В темноте впереди нас замаячил виадук.
– Дай мне, – упорствовала я, нагнувшись вперед, чтобы дотянуться до пакетика.
– Даже не думай, – проворковала Сильви и потрясла упаковкой практически у меня перед носом, прекрасно сознавая, что мне ее не достать.
– Ясмин, – резко одернула меня мама, но я не придала значения. Я вытянулась вперед, насколько было возможно, и ухитрилась ухватить пакетик.
Я потянула к себе, Сильви – к себе. Упаковка лопнула, и шоколадки разлетелись по салону.
– Ясмин! – закричала мама, оторвала правую руку от руля и схватила меня за запястье, одновременно вклиниваясь в полосу перед грузовиком.
– Ай, – воскликнула я, освобождая руку.
И тогда случилось это.
То, что тогда произошло, в моей памяти разделилось на несколько отдельных этапов.
Мерцающий желтый свет фонарей ложится бликами на мамину щеку.
Сильви нагибается, чтобы собрать с пола шоколадки.
Мамина левая рука на секунду соскальзывает с руля.
А потом нас заносит.
Все могло закончиться хорошо, не окажись тот грузовик так близко. А мама справилась бы с управлением, не будь дорога под виадуком такой скользкой.