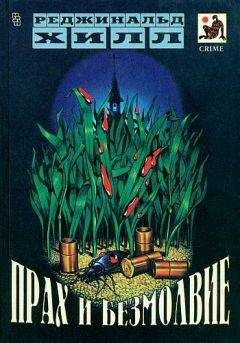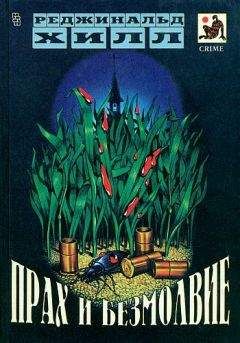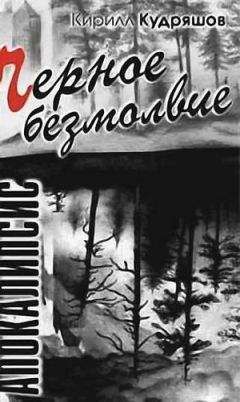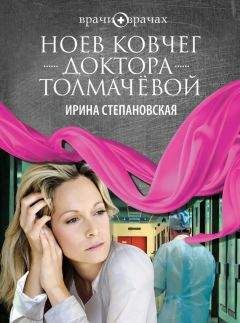Извини. Я плету какую-то несуразицу. Просто я немножко нервничаю. Видишь ли, я решила, что завтра и мой великий день. Не волнуйся, я буду где-нибудь поблизости, чтобы увидеть, как ты с триумфом проедешь мимо. Это зрелище я не пропущу ни за что на свете; даже за целый мир с его городами и башнями; лесами и полями! А потом я потихоньку ускользну, навсегда оставив тебя в покое.
Я не знаю наверняка, будешь ли ты читать мое письмо до или после этого события. Сегодня и завтра — праздничные дни, значит, почта не работает, так что письмо я подброшу. Неужели ты из тех добросовестных служак, которые заглядывают на работу в праздники и проверяют, все ли там в порядке? Сомневаюсь! Хотя это неважно, ведь подписываться я не собираюсь. Тебе остается только догадываться, а завтра ты получишь такой ключ к разгадке, который даже ты не сможешь не заметить. Кажется, ты разобрался с другой задачей? Помогли хоть как-то мои жалкие подсказки? Возможно, нет. Возможно, как всегда, вы все сделали самостоятельно, ты и твои молодцы: красавец инспектор и уродец сержант. Святая троица! Три в одном, и этот один — ты! И сегодня твой день — Троица! Что ж, ты заслуживаешь всяческих похвал. А что насчет другой троицы? Я о тех, кого вы откопали из цемента на вашей автостоянке. Может быть, о них сегодня тоже стоит упомянуть? Если сопоставить твой маленький триумф с болью, горем, утратой, которыми обернулись для их близких ваши успешные раскопки, не следует ли вовсе забыть о твоем триумфе и думать лишь о страданиях этих людей. Что же это за мир, где такое… но, прости, мы оба знаем, что это за мир, разница лишь в том, что ты думаешь, будто им можно управлять, а я знаю, что никакому контролю он не поддается. Именно поэтому я и собираюсь его покинуть, когда ты триумфально проследуешь, мимо во всем своем величии.
Прощай, Энди Дэлзиел. Будешь ли ты вспоминать обо мне? Сомневаюсь. Но в упоении своим успехом постарайся не забывать, что на самом-то деле никакой ты не Бог!
Спасибо за все, что ты сделал.
Точнее, спасибо за то, что ты ничего не сделал.
Кроме того, что облегчил мне мою задачу.
Эндрю Дэлзиел вылез из машины, потянулся, зевнул, почесал бок и критически глянул на голубые небеса, золотое солнышко, красные кирпичные стены, вдоль которых тянулась ровная полоска зеленого газона, через равные промежутки прерываемого куртинами оранжевых бархатцев, высаженных в шахматном порядке. И увидел он, что это хорошо.
Было что-то в этой старой тюрьме, со временем превратившейся в обыкновенный следственный изолятор, что вселяло успокоение в самые измученные души. Она рождала надежду достичь какой-то цели, давала ощущение принадлежности к нашему вечно меняющему миру. Сюда люди приходили, чтобы заплатить за свои преступления, и, заплатив, возвращались к обществу, которое осудило их, а после чаще всего снова приходили сюда, в это же самое место. Так совершался некий круговорот — преступление и наказание, ошибки и воздаяние. Такой же бесконечный и необратимый круговорот, как смена дня и ночи, рождения и смерти, правых и левых, романтизма и классицизма, движения вперед и возвращения назад, поглощения пищи и опорожнения желудка, вседозволенности и пуританства — словом, всего, что составляет эту бесконечную, вечную и бессмысленную вселенную.
Были, разумеется, и такие, которые, раз войдя в эти стены, уже не покидали их, но так было в прежние, более суровые времена, хотя и они могут когда-нибудь вернуться. Дэлзиел не был противником исключительной меры наказания, но он не слишком верил в непогрешимость тех, кто отправляет правосудие. «Что ж, — говорил он, — можно и повесить, но тогда и того, кто совершил судебную ошибку, тоже надо вешать». Но, чтобы никто не заподозрил его в тайном либерализме, он также ратовал за то, чтобы те, кто выпускает преступников обратно на свободу, сами возмещали бы обществу урон, который эти преступники могут нанести ему в будущем.
Позади к территории тюрьмы примыкал участок земли, спрятанный от посторонних глаз забором с решетчатой калиткой. Его можно было ошибочно принять за старый, обнесенный забором сад, но забор был слишком высок, чтобы пропускать туда живительные лучи солнца, а почва слишком кислая, чтобы на ней могло вырасти что-то кроме самых неприхотливых сорняков. Здесь, глубоко под землей, покоились засыпанные известью, чтобы их грешная плоть не могла распространить дух порока, тела тех, кто был казнен в старые добрые времена. Говорят, Дэлзиел иногда прогуливался вдоль этого забора, словно лендлорд, обходящий свои владения, и, казалось, напряженно прислушивался к чьей-то очень важной беседе. Он действительно знал имена и историю жизни чуть ли не каждого, чья душа нашла здесь упокоение, и, кроме того, знал, что многие из них были почти наверняка невиновны в тех преступлениях, в которых их обвиняли. Отсюда и проистекало его неверие в праведность суда.
Но в то прекрасное утро понедельника он направлялся вовсе не к этому печальному месту, а мысли его были заняты не безвинно осужденными.
Однако какова бы ни была причина его визита, администрация тюрьмы от низших до высших чинов сочла странным, что в праздник человек не нашел для себя ничего лучшего, чем прийти в столь специфическое заведение.
— Я думал, вы участвуете в этой процессии, мистер Дэлзиел, — сказал офицер, который препроводил его в комнату свиданий, — мистериях или что-то в этом роде.
— Ага, участвую, парень, — добродушно ответил Дэлзиел, — но мы начинаем только в полдень, поэтому я решил с утра нанести несколько визитов.
— Если вам здесь так нравится, может, отдежурите за меня, — пошутил офицер, — а я за вас вашу роль сыграю.
— Оставайся лучше здесь, сынок, — посоветовал Дэлзиел. — А теперь давай-ка, гони его сюда.
— Только если он сам захочет, — переходя на официальный тон, заявил офицер. — Он не обязан с вами встречаться.
— Не волнуйся. Как только ты произнесешь мое имя, он прибежит как миленький.
Через несколько минут дверь отворилась, и в комнату вошел Филип Свайн. За то недолгое время, что он провел в изоляторе, он потерял привезенный из Калифорнии свежий цвет лица, но привычная для него непринужденность поведения осталась при нем.
— Здравствуйте, мистер Дэлзиел, — поздоровался он. — Что случилось? Вы волнуетесь перед дебютом?
— Здравствуйте, мистер Свайн. Как они тут с вами обращаются?
— Неплохо. Но не стану скрывать, что был бы рад поскорее выйти отсюда и вернуться на «Москоу-Фарм».
Дэлзиел улыбнулся. Что бы это ни было: насмешка, бравада или твердая уверенность — ему было все равно.
— Ждете, что вас освободят под залог? — спросил он.
— Раз вы закончили расследования, вы вряд ли станете теперь возражать, правда?
— Кто знает, мы же не хотим, чтобы вы сбежали куда-нибудь.
Свайн улыбнулся.
— Помилуйте! Если уж я отказался уехать за границу и жить там на отличное жалованье, то вряд ли буду где-нибудь скрываться как нищий бродяга.
— Так значит, вы давно уже все решили по поводу работы, которую предлагали вам Делгадо, да? А вы вроде говорили, что все еще спорили об этом с женой? Что ж ты, парень, роль надо хорошо заучивать и реплики не путать. Нелегко тебе приходится, когда ты у всех на виду. Я-то знаю.
— Да что вам нужно, Дэлзиел? Я согласился встретиться с вами, чтобы только не умереть от скуки, но я начинаю думать, что в моей камере веселее, чем в вашем обществе.
— Врун, — добродушно произнес Дэлзиел, — ты пришел, чтобы услышать, что я хочу тебе сказать, потому что, хоть ты и думаешь, что тебе не предъявят обвинения в убийстве, и надеешься, что и твой адвокат так же думает, ты не будешь окончательно уверен, пока не услышишь этого от меня.
Свайн, стараясь, правда не очень убедительно, напустить на себя безразличный вид, проговорил:
— Послушайте, я ведь по собственной воле признался в том, что нарушил закон, и готов понести заслуженное наказание. Но я не убийца, и вы знаете, что нет доказательств обратного. Я не верю, что британское правосудие способно совершить такую ужасную ошибку.
— Да? Между прочим, меньше чем в ста ярдах отсюда есть полянка, которая заставила бы тебя изменить свое мнение, — заметил Дэлзиел. — Но позволь, я окончательно тебя успокою. Я за этим сюда и пришел. Сегодня праздник, светит солнышко, все веселятся, и я подумал о тебе: «Сидит здесь, несчастный, в тревоге, даже своему адвокату не может позвонить, потому что тот укатил отдыхать в Барбадос». Богатые они, эти стервятники! Ты же знаешь, что он уехал, да? Вот я и пришел, исполненный сострадания, уничтожить все сомнения. Хотя это забавно, а? Тебе как раз на руку сомнения. Это как раз то, что тебе нужно.
— Что вы хотите сказать? — с видом страдальца спросил Свайн.
— Я говорю о тех преимуществах, которые дает обвиняемому сомнение, посеянное в душах уставших от заседаний присяжных. А в твоем деле, Фил, сомнений, которые тебе выгодны, премного. Возьмем, к примеру, смерть твоей жены. Ты говоришь, что это был несчастный случай и нет никаких доказательств, что это не так. Значит — сомнение. Или Бев Кинг. Ты говоришь, что идея принадлежала Уотерсону и что он претворил ее в жизнь после того, как ты от нее отказался и попытался его остановить. Сомнение. Или сам Уотерсон. Ты говоришь, что его, наверное, убил Арни из-за чувства благодарности к тебе и отвращения к таким растленным типам, как Уотерсон. Сомнение. И в конце концов, сам бедняга Арни. Оказался на пути бульдозера. Он, может быть, не очень-то старался отойти с дороги, потому что его мучило чувство вины. В любом случае, сомнение. Понимаешь, о чем я, Фил? Сомнение — главное для тебя. И как ни странно, это может сработать. Кто-то, возможно, подумал бы, что уж больно много смертей, что не бывает столько совпадений, что преимущество сомнения должно когда-нибудь кончиться. Но судьи так не подумают. Сомнение, оно заразительно. Предположим, свидетель обвинения один раз что-то напутал, потом в чем-то сбился, а уж после этого присяжные готовы верить, что форель прыгнула в молочный соус из кухонного отсека пролетавшего мимо «Конкорда».[32] Так что, думаю, ты своего добился, Фил. Думаю, прокурор спишет с тебя смерть твоей жены и Арни как несчастные случаи, признает, что ты невиновен в смерти Уотерсона и притянет за причастностью убийству Бев Кинг. Поздравляю! То есть, наверное, тебе все-таки придется некоторое время посидеть, но, насколько я тебя знаю, ты там похлебаешь тюремной баланды, да и выйдешь с улыбочкой. Тем более, что тамошними харчами ты недолго будешь питаться.