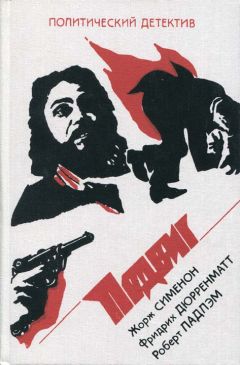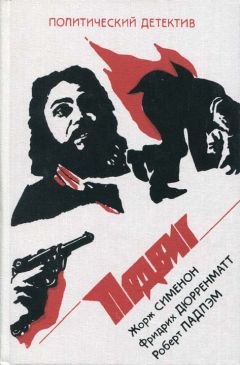Его дочь, его зять и внук были не в счет, они никогда не играли никакой роли в его жизни и постепенно стали для него посторонними, совершенно чуждыми ему людьми.
Что же касается Шаламона…
Правда ли, что в эту самую минуту тот спешит на машине по дороге Париж — Гавр? Имело ли смысл ложиться спать, когда в любую минуту ему, возможно, снова придется вставать?
— Если они приедут, куда мне их провести? — спросил Эмиль.
Президент задумался и не ответил. Ему не хотелось бы оставлять Шаламона одного в своем кабинете. Ведь тут было не министерство, где в приемных всегда находятся служащие. Когда являлся какой-нибудь посетитель, Миллеран предлагала ему подождать в одной из комнат, уставленных полками с книгами.
Ежедневно Президент принимал по меньшей мере одного посетителя. Чаще всего, по совету профессора Фюмэ, этим дело и ограничивалось, ибо, несмотря на свое внешнее равнодушие, он при гостях слишком расходовал свои силы.
Уже на пороге Миллеран предупреждала:
— Прошу вас не задерживаться больше получаса. Доктора запрещают Президенту утомляться.
На поклон к великому человеку приезжали разные люди, среди них были государственные деятели почти всех стран мира, историки, профессора, студенты; некоторых из них Президент принимал.
Все они хотели его о чем-то спросить. Те, кто писал о нем книги или доклады, приезжали с внушительным списком различных вопросов.
Почти неизменно, за очень редким исключением, он соглашался повидать их. В начале беседы он обычно вел себя так, будто исполнял скучную обязанность, и, казалось, замыкался в скорлупу.
Но через несколько минут он оживлялся, и посетитель не всегда замечал, что Президент сам задает вопросы, вместо того чтобы отвечать на них.
Некоторые гости по истечении получаса собирались уходить. В противном случае в дверях молча появлялась Миллеран, давая понять, что время истекло.
— Мы сейчас закончим наш разговор… — говорил Президент.
Это «сейчас» длилось иногда очень долго, полчаса превращались в час, затем в два, и кое-кто из гостей бывал чрезвычайно удивлен, когда его вдруг просили остаться и приглашали к обеду.
Эти визиты утомляли Президента, но в то же время и развлекали его, и когда наконец он оставался один на один с Миллеран, то потирал руки с довольным видом.
— Он приезжал кое-что выведать у меня, а я у него выведал все, что хотел!
Иногда, перед тем, как должно было состояться свидание, он шутливо спрашивал:
— Какой же из моих акробатических номеров мне следует сегодня исполнить?
В этой шутке заключалась доля правды.
— Надо же мне позаботиться о своем памятнике! — бросил он однажды, когда был в веселом настроении.
Не признаваясь в этом, даже в глубине души, он заботился о том образе, который по себе оставит. Случалось, что его сердитые реплики, которыми он так славился, были не совсем искренними, они относились скорее к его «акробатическим номерам». В подобные минуты он не терпел присутствия Миллеран, ибо несколько стеснялся ее, так же, как стыдился в присутствии мадам Бланш наготы своего немощного тела.
— Вам больше ничего не понадобится, господин Президент?
Старик бросил взгляд вокруг себя. Бутылка с минеральной водой и стакан были на месте. Рядом лежал порошок, который он принимал на ночь для того, чтобы заснуть. Миниатюрная лампочка-ночник была уже зажжена. Ночной фонарь тоже был наготове.
— Спокойной ночи, господин Президент. Надеюсь, мне не придется будить вас до завтрашнего утра.
Лампочка на потолке погасла, шаги Эмиля затихли, дверь кухни открылась и вновь закрылась. В комнату вошли тишина и одиночество — они были почти осязаемы, их особенно подчеркивала буря, шумевшая за стенами дома.
С тех пор, как он стал стариком, он почти не испытывал потребности во сне и в течение уже многих лет каждый вечер по два-три часа перед тем, как заснуть, лежал без движения на своей постели, — казалось, жизнь в нем еле теплится.
Строго говоря, это была не бессонница. Он не ощущал ни раздражения, ни нетерпеливого желания заснуть, его состояние отнюдь не было мучительным. Напротив! Днем его часто радовала мысль о той минуте, когда наконец ночью он останется наедине с самим собой.
Теперь, когда в спальне появился ночник, одиночество стало еще приятнее; при бледном голубоватом свете он сильнее ощущал — даже когда у него были сомкнуты веки — атмосферу деятельной сокровенной жизни, которая продолжалась вокруг него.
Все сливалось воедино: стены, мебель, очертания которой были так хорошо ему знакомы, привычные вещи, которые он видел, не глядя на них. Ему казалось, он даже чувствует их вес и плотность. Ветер, дождь, крик ночной птицы, шум прибоя, береговых скал, скрежет оконных ставень, чьи-то шаги в комнатах наверху — все, вплоть до звезд, мерцающих в безмолвии небес, составляло симфонию, а в центре ее, безучастный на вид, был он сам, и сердце его своим биением как бы дирижировало этим ночным концертом.
Может быть, скоро, такой же ночью, его настигнет смерть? Он знал, что никто в доме не будет удивлен, если однажды утром его найдут в постели уснувшим навеки. Он знал, что порой старики незаметно для самих себя угасают во время сна.
Миллеран, как он указывал, боялась, что это произойдет скорее всего в предвечерний час, когда он задремлет в своем старом кресле со скрещенными на животе руками.
Теперь и лежа в кровати, он принимал эту позу, позу мертвеца в гробу. Он делал это неумышленно, но оттого, что мало-помалу стал находить это положение удобным и естественным.
Было ли это предзнаменованием?
Он не верил ни в какие предзнаменования. Он не желал верить во что бы то ни было, он не верил теперь даже в полезность того дела, которое совершил. За всю свою жизнь он по крайней мере раз десять почел себя обязанным сделать нечеловеческое усилие, абсолютно необходимое, как он думал тогда, и в продолжение долгих дней, месяцев, многих лет жил в лихорадочном напряжении, преследуя поставленную перед собой цель наперекор всему и всем.
В этих случаях его неиссякаемая энергия, его могучая жизненная сила, приводившая в восторг профессора Фюмэ, сообщалась не только ближайшим его соратникам и палате депутатов, но всей стране, всему народу. Миллионы неведомых ему людей, вначале настороженных и недоверчивых, ловили себя на том, что слепо, в конце концов, идут за ним.
Из-за этого, почти биологического его свойства именно к нему прибегали за помощью в самые трудные минуты, когда, казалось, нет никакого выхода.
Сколько раз слышал он одни и те же слова доведенного до отчаяния очередного главы государства: «Спасите Францию!», или «Спасите Республику!», или еще «Спасите Свободу!». Во время каждого кризиса он незыблемо верил в свою миссию и не мог бы действовать без этой веры. Она была так глубока, что во имя ее он пожертвовал бы всем на свете — не только самим собой, но и другими людьми, а это было самое трудное.
Он до сих пор с ужасом, с содроганием вспоминал о первых своих шагах на посту министра внутренних дел… Он снова видел себя в черном, неумолимом кольце угольных шахт и доменных печей… Он стоял один между негодующими забастовщиками и отрядом солдат, которых вызвал, пытаясь договориться в последний раз…
Как только он намеревался что-то сказать, гул протестующих голосов покрывал его слова. Потом, когда он замолчал, бессильно опустив руки, застыв на месте, как темный, зловещий и, несомненно, нелепый силуэт, наступила долгая напряженная пауза, свидетельствующая о колебаниях, о нерешительности обеих сторон.
Оба лагеря исподволь наблюдали друг за другом с недоверием и опаской, и вдруг, как по сигналу, — позднее было установлено, что сигнал действительно был, — кирпичи, камни, куски чугуна взлетели в воздух, а кони начали ржать и рыть копытами землю.
Он знал, что за это решение его будут упрекать, пока он жив, что назавтра большая часть страны проклянет его.
Но он считал своим долгом…
— Атакуйте, полковник!
Спустя восемь дней на стенах города были расклеены плакаты, изображавшие его с отвратительной усмешкой на губах, с окровавленными по локоть руками, а правительство было низвергнуто.
Но порядок был восстановлен…
Десять, двадцать раз он уходил в тень, исполнив то, что считал необходимым, и угрюмо и молчаливо ждал в рядах оппозиции, пока его снова ни призовут на помощь.
Однажды какой-то человек, ничем не примечательный, вроде Ксавье Малата, пришел просить его о назначении на пост, на который не имел права. Президент отказал ему. Выйдя из его кабинета, проситель выстрелил себе в рот прямо в многолюдной приемной.
С некоторых пор по совету врачей — его трех мушкетеров — он принимал на ночь легкое снотворное. Оно действовало не сразу, он постепенно погружался в приятное забытье, к которому теперь привык.