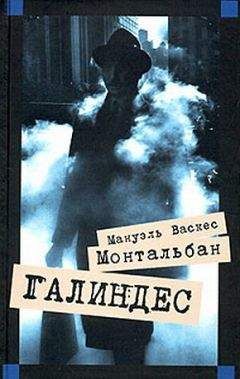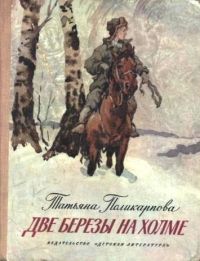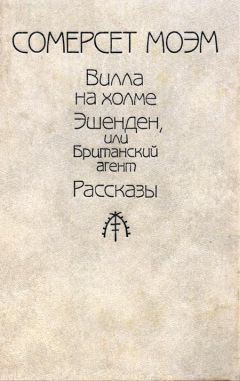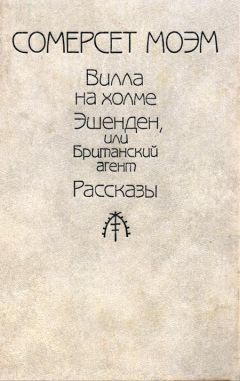– Для меня глаз – женского рода, природа, жизнь. Глаз на дереве – это глаз на тотеме: древняя-древняя природа смотрит на тебя. Другие знаки обозначают дорогу или окрестности. Ты видела кромлех, который я сделал из шпал рядом с домом? Я пытался передать ощущение пространства вокруг, ведь баск тесно связан с природой. То же стремятся сделать художники, у которых сильно этническое начало. Ты слышала что-нибудь об Ибарроле или Отейсе?[6] Для Отейсы кромлех обозначает метафизическое религиозное пространство, а для Ибарролы и для меня – нет. Я – материалист и вижу в этих пространствах место, которое сельскому жителю необходимо как-то обозначить, чтобы иметь возможность там жить. Лесные поляны – чтобы на них мог пастись домашний скот. Вечнозеленые деревья – чтобы они защищали его всегда, как крыша, созданная природой. Даже расположение домов… Существует связь между обрядом и необходимостью, продиктованной законом природы. Как жалко, что уничтожили деревья, которые всегда росли здесь, – ясень, тополь, ивы, липы. Черные тополя – по берегам рек, а в горах – каштаны, ясени, буки и дубы, особенно дубы. Именно это дерево уничтожали с особым рвением, почти как людей.
– Темнеет. Расскажешь по дороге домой.
Но когда поляна остается позади, Хосема замолкает и идет позади всех, прикидывая, какие деревья он будет раскрашивать завтра, или выискивая между стволами подходящий просвет, чтобы показать тебе еще один пример. А может, ему неловко от того, что он так разоткровенничался, или от того, что время от времени ты оборачиваешься взглянуть на его лицо, словно он тебе интереснее других, словно ты хочешь похитить у него эту мистическую связь с лесом, деревьями, землей. Рикардо разговаривает с дядей о семье, о работе, пытаясь изображать себя просто сотрудником Министерства культуры, не имеющим к политике никакого отношения.
– Это очень бюрократическая работа. Реально у меня нет никакой власти. Ну, может быть, в некоторой степени от меня зависит распределение бюджетных средств. Ко мне приходят то музыканты, то театральные деятели. Поливать грязью правительство, властные структуры все горазды, а как дойдет до дела, так стоят с протянутой рукой – может, им что перепадет из бюджета.
– Все мы так живем. Вот я уже на пенсии, а тоже стою с протянутой рукой – не вернет ли мне государство прибавочную стоимость от моего труда. Хорошо еще, что здесь потребности минимальные, да и лес нет-нет, глядишь, и подарит тебе что-нибудь – каштаны или грибы, а то кролика или дикие ягоды. Ты любишь салат из всяких травок? Здесь на склонах холмов много всего растет. Тетушка твоя всегда держит кур, а молоко здесь хорошее и дешевое. Лучше всех в округе – у Гороспе, гробовщика. Он мастер что надо и делает гробы всем в округе и в долине. Лет десять назад один фоб, который он сделал, так ему понравился, что он бережет его для себя.
– И ты никогда никуда не ездишь? В Виторию или в Сан-Себастьян? Или в Мадрид?
– Я уже наездился – и по своей воле, и поневоле. Раз тридцать катался в наручниках и по жандарму с каждой стороны: тут ведь как политическая заварушка, так сразу обвиняли Мигелоа, а потом вдобавок ко всему Хосема вступил в ЭТА. Однажды мы чуть было не очутились в соседних камерах, в одну и ту же тюрьму попали. Я – за то, что коммунист, а он – за то, что из ЭТА. Только при твоей тетке об этом не говори: как мы о политике – она сразу дрожать начинает и в слезы. Видел наш дом? Лет десять назад, Франко уже умер, мне его подожгли. Приехали несколько жандармов в штатском и подожгли – не могли же они оставить в покое Мигелоа и его сына.
– Ну, теперь-то все спокойно. Все в порядке.
– И в дерьме. Не спокойно, нет – беспамятно. Я не могу быть спокойным, если помню. Но я сижу тихо, чтобы и он сидел тихо, потому что не хочу, чтобы мне его пристрелили. Ни Ампаритшу, ни я этого не переживем.
Ты слышишь, о чем они разговаривают, но Хосема делает вид, что не слышит, потому что знает: в конечном счете отец говорит для него.
– Ох, как пахнет!
Кричит Рикардо и прибавляет шагу вслед за псом, который уже под дверью дома – стоит на задних лапах, одной передней опираясь о дверной проем, а другой приподнимая крючок. Поддерживая его в таком положении, пес просовывает нос в щель, следом за носом – голову, а затем, налегая всем телом, настежь распахивает дверь.
– Вот это да!
– Я же тебе говорил, этому псу место в университете.
Тебя радует тепло дома. Проникающий повсюду запах креозота, которым покрыты виднеющиеся тут и там балки причудливой формы, перебивается вкусным запахом еды, но женщина не говорит, что она приготовила, словно неожиданность – залог ее успеха как хозяйки.
– Нет, племянничек, ни за что не скажу.
– Скажи только, тушеная фасоль будет?
– Конечно, будет. Я помню, что ты любишь.
Столовой служит старая кухня – с дымоходом, большим, почерневшим, огонь в печи разводили бессчетное число раз, в том числе и сегодня. Видны перекрещенные балки как нервы – мертвые ветви дома-дерева. На огне жарятся колбаски, которые дядя предлагает как закуску, протягивая их на длинной палочке, а Хосема открывает бутылку «чаколи», которую он привез из Гетарии.
– Не бойтесь, за обедом мы «чаколи» пить не будем. Оно годится только горло смочить, а за едой надо что-нибудь посерьезнее. «Чаколи» – что лимонад.
И под рукоплескания Рикардо появляется коронное блюдо в закопченной кастрюле, свидетельнице стольких триумфов Ампаритшу – красная фасоль, тушенная со шпиком и кровяной колбасой, и ты сравниваешь это блюдо с той фасолью, добрую сотню банок которой съела – сначала когда жила в лагере и шла по стопам Тома Сойера, а затем когда шла по следам героев книги Хемингуэя «За рекой в тени деревьев». У фасоли, что растет на твоей родине, и у той, что лежит перед тобой на тарелке, разное чувство времени: эта – древняя и темная, как кровь, которой пропитана колбаса; еще несколько лет назад ты бы с отвращением отказалась от колбасы, которую варили так долго, что она разваливается от одного прикосновения. С хлопками вытаскивают пробки из двух бутылок сухого вина – «Маркес де Муррьета», записываешь ты.
– Эта негодяйка все записывает, – замечает Рикардо, уже опьяневший больше остальных.
– Записывай, девочка, записывай, тут нет никаких секретов.
И тарелка с рыбьими потрохами – тебе на пробу. Ты пробуешь эти таинственные, похожие на желе, рыбьи наросты, остро пахнущие чесноком и петрушкой, и они тебе не нравятся, но ты напускаешь на лицо восторг, потому что тебе нравится все остальное и эта женщина – не то старая, не то молодая, – которая счастлива, потому что больше не поджигают ее дом, ее муж не в тюрьме, а сын уже не занимается вооруженной борьбой.
– Рыбьи потроха на закуску, а потом что?
– А потом жареная треска, вымоченная в молоке с травами.
– Я раздуюсь, как удав, как настоящий удав! – восклицает Рикардо, и это – лучший комплимент для его тетушки, славящейся в семье своим искусством готовить.
– Тетя, если ты приедешь в Мадрид и начнешь так готовить, ты разбогатеешь.
– Не больно-то тебе нравится моя готовка, если ты так редко приезжаешь.
– Знаешь, я иногда езжу на другой конец Мадрида, в ресторан «Ла Анча» только потому, что фасоль, которую они готовят, немножко напоминает твою. Но чаще приезжать я никак не могу, как бы ни хотелось. А потом посмотри на мать – много ли она приезжает, а ведь дня не проходит, чтобы она не вспомнила свою Басконию.
– Ну, ты еще расскажи, как ты сильно занят. Все знают, что вы в министерствах палец о палец не ударяете.
– Нет, тетя, тут ты не права, работы много, очень много. Вот и теперь мы не можем остаться из-за работы и из-за того, чем занимается Мюриэл. Ну-ка, детка, расскажи им.
Хесус де Галиндес Суарес. Баскский юрист и писатель; родился в Мадриде в 1915 году. Мать его умерла, когда он был маленьким, и воспитал мальчика отец, врач. Хесус де Галиндес окончил Университет Комплутенсе в Мадриде, после чего работал у профессора Санчеса Романа на кафедре политического права, ассистентами которого были как будущий министр внутренних дел Франко, так и юристы, оставшиеся верными Республике. Живя в Мадриде, Галиндес был членом студенческой Националистической партии басков, а когда в стране вспыхнула гражданская война, он работал уже одним из помощников Мануэля де Ирухо, министра юстиции, тоже баска. Реально он занимался спасением своих земляков, которых преследовали никому не подконтрольные бесчинствующие анархистские элементы. В том числе спасал и монахинь. Верность Галиндеса Республике была безупречной верностью Стране Басков, свободам которой угрожал франкизм. После окончания войны Галиндес бежал во Францию, а оттуда – в Доминиканскую Республику, где преподавал право и работал адвокатом по трудовым спорам. В 1946-м Галиндес переехал в Нью-Йорк, где развил бурную деятельность по организации антифранкистских групп и стал представителем НПБ в ООН и при Госдепартаменте США. Одновременно писал диссертацию о Трухильо, диктаторе Доминиканской Республики, которую защитил в Колумбийском университете в феврале 1956-го, несмотря на давление со стороны самого Трухильо и его союзников из доминиканского лобби в Соединенных Штатах. Несколько дней спустя, а точнее – 12 марта 1956 года, его похитили и больше никто никогда ничего о нем не слыхал.