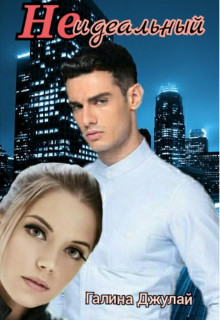двух лет они были лишены физической близости. Она не считала грехом свое желание не рожать в ближайшее время. Ей хотелось как можно дольше не лишать себя близости с Джаредом. С маленькой Сорией она немножко сжульничала — целый месяц не сообщала мужу о своей беременности. Ведь это могла быть просто ошибка, и ничего страшного в этом она не находила. Теперь, после того как она выносила Сорию, родила ее, два года ухаживала за ней, она сможет вернуть себе законное место в сердце Джареда. Тут нечем было особенно гордиться, и она старалась себе этого не позволять. Все-таки она — младшая жена.
И все же Марта гордилась тем, что была моложе Эстер Пратт на десять лет. И как бы желая наказать себя за это, она подумала о возможности третьей женитьбы Джареда. Но это им было не по карману. Очень немногие мормоны имели больше двух жен. Стоимость жизни резко поднялась. Она не очень об этом сожалела. К тому же радость, с которой он воспринял новость, что Сория больше не нуждается в грудном молоке, навела ее на мысль, что Джаред тоже с нетерпением ожидает предстоящего уик-энда. Во всяком случае, ему не понадобится третья жена. По крайней мере еще некоторое время.
Она сидела в ванне, лениво наслаждаясь мечтами о ночи, которая предстояла в пятницу. И тут она услышала раскаты грома. Это было знамение. Ведь в этой безводной пустыне, где грозы были так редки, дождь и гром, без сомнения, должны были служить божественным знамением того, что их многодетный союз угоден господу.
Марта вышла из ванны. Она вытерлась и быстрым привычным движением просунула ногу в чистый хитон, прежде чем развязать прежний, ношенный, и сбросить его со своего тела. После этого она завершила ритуальное облачение, накинула купальный халат и пошла одеваться. Она торопилась. Ей не хотелось, чтобы дети испугались грома и молнии, если разразится гроза.
* * *
Поль Донован расположился поудобнее на большом плоском камне. Он снял с плеча солдатскую флягу, отвернул крышку и выпил прохладной воды. Потом налил немножко воды в ладони и смочил лицо и шею, опаленные солнцем. Кожа была сухая и шершавая. Он побрызгал на войлочный чехол, чтобы фляга оставалась все время прохладной. Потом завинтил крышку и положил флягу рядом с собой на камень.
Поль взглянул на крохотные лужицы, которые образовались из капель. Для насекомых и мелких ящериц, которые жили на этой безводной земле, даже одна-единственная капля была бы роскошью, прекрасной возможностью насладиться прелестью влаги. Он пристально смотрел на капли, наблюдая, как быстро они впитываются в пересохшую землю.
Поль был крупным мускулистым мужчиной с широкой костью, но черты его лица были удивительно тонкими, точеными. Разрез его широко посаженных серо-голубых глаз с опущенными уголками подчеркивался изгибом черных бровей. У него были тонкие губы, и он имел привычку их немного поджимать, как сейчас, глядя на землю. Это был человек, полный внутренних противоречий. Будучи учителем биологии и ученым, он в то же время самым ненаучным образом сожалел, что тут не было ни ящерицы, ни какого-нибудь насекомого, которое могло бы воспользоваться бесценными каплями пролитой им воды. Но черт побери! Суровая действительность пустыни не предусматривала такой человеческой расточительности.
Он провел рукой по волнистым черным волосам. Они были влажными от пота, и рука была тоже влажной. Что здесь особенно бросалось в глаза, что с первого дня его поразило — так это фантастическая бережливость, даже скупость жизни пустыни. И даже более того— способность здешней природы приспосабливаться и цепляться за жизнь. Это… чертовски напоминало ирландцев. Не таких, как он, а тех, которых еще помнили его родители и деды, людей из прошлого, переживших голод и покинувших свою страну. Впрочем, такая целеустремленная бережливость была в характере всех жителей Новой Англии — этих кремень-янки, пахавших свои поля среди валунов. Но пейзаж Новой Англии был фантастически богат по сравнению с этой пустыней. Там, в Массачусетсе, изобилие воды, относительное богатство почвы, частые смены погоды, смягчавшейся после двух-трехдневной или, в крайнем случае, недельной жары или мороза. И это облегчало жизнь, делало ее легкой и беззаботной. Хотя Поль и привык много времени проводить на улице, здесь он так сильно обгорел, что выглядел незакаленным новичком, который со временем приспособится.
Отдыхая здесь, он думал о традициях радушия и гостеприимства Запада, рассматривая их в свете удивительной скупости ландшафта, который его окружал. Даже горы, с их изобилием воды и могучими деревьями, не были по-настоящему гостеприимны. Своими невероятными размерами они вызывали в нем чувство отчаяния и одиночества.
Крутизна молодых гор Запада вовсе не была величественной. Только романтики девятнадцатого века считали горы красивыми. Ему же эти горы казались одинокими и страшными, такими, как их изображали в эпоху Августа. И все же угрожающий вид этих гор доставлял Полю какое-то странное удовольствие своим соответствием его мрачному настроению. Но здесь в пустыне он находил успокоение в том, что все формы жизни сумели сохраниться в такой жаре и беспощадном безводии. Это успокоение, если он слишком начинал копаться в своих чувствах, улетучивалось и, что еще хуже, превращалось в слезливость, сентиментальщину в стиле «Ридерс дайджест» и жалость к себе: «Я долго горевал, что хожу зимой без сапог, пока не повстречал человека и вовсе без ног». Вот подобная чепуха приходила на ум. Однако бездумное созерцание флоры и фауны этой пустынной долины приносило ему утешение и необычное спокойствие. Пустыня, простиравшаяся на восемьдесят миль в длину и, возможно, на тридцать миль в ширину, казалась огромной ошибкой, допущенной при сотворении мира. Отпугивало даже ее название—«долина Скалл Велли» [в дословном переводе «долина Черепов»]. Но, сидя на этом плоском камне и рассматривая волоски на сухих семенах чертополоха, Поль был заворожен способностью природы приспосабливаться. Он был заворожен также пустотой, царившей здесь, потому что она соответствовала пустоте, которую он ощущал в самом себе. Через полгода ему стукнет тридцать лет. Это возраст, считающийся началом зрелой жизни, а его жизнь уже высушена. Она была достаточно интересной до того непостижимого февральского дня. В тот день начальник вошел в лабораторию и попросил его оставить занятия и пройти с ним в кабинет. Поль сразу догадался, что произошло что-то непоправимое, потому что старый Визерспун, обычно раздражительный сукин сын и неисправимый болтун, вдруг стал вежливым и даже тихим. А потом в кабинете начальника Поль увидел полицейского. И еще до того, как полицейский открыл рот, Поль знал наверняка, что именно произошло и какую новость ему сообщат. Он, конечно,