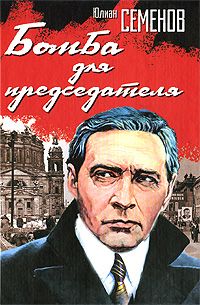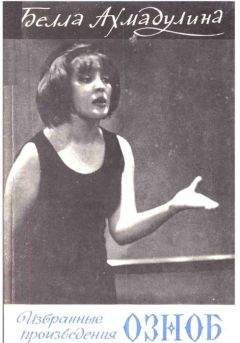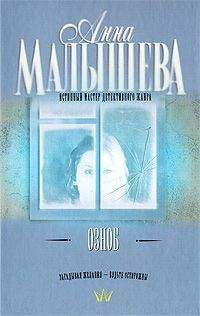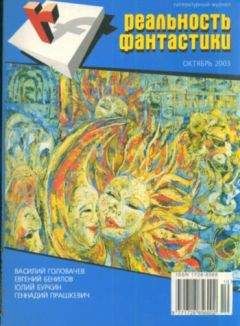— У кого?
— У Лихтенштейна, — ответил Люс спокойно. Он вовремя оборвал себя. «Ли» — это ведь не «Лим». Это «Лихтенберг», «Лихтенштейн», «Либерганд»… — Лихтенштейн — это враг моего продюсера, Онума-Сан.
— Но это не мистер Лим? — тихо спросил Онума и, не дождавшись ответа побледневшего Люса, пошел танцевать с одной из гейш. Невидимый магнитофон вертел мелодии Рэя Кониффа.
Люс поднялся, и его качнуло.
«А я здорово набрался этого сакэ, — подумал он. — Шатает. Ну и пусть. Сдыхать надо пьяным. Не так страшно. Но они сейчас не станут меня убивать. Я в их руках. Они крепко попугали меня с Хоа. Им кажется, что этого достаточно».
Онума-сан, держа в руке длинный бокал, шагнул ему навстречу. Он чокнулся с Люсом бокалом, в котором было шипучее шампанское, пролив несколько капель.
— Давайте выпьем за искусство, — сказал Онума. — За правдивое искусство. Сейчас искусство должно быть правдивым, как математика. Вот за это я хочу выпить.
— Ладно, — согласился Люс. — Только я осоловел.
— Можно попросить нашатыря.
— Нет, нет, не надо. А как вас можно называть уменьшительно? Я хочу называть вас ласковым именем…
— Японца нельзя называть уменьшительно, — ответил Онума. — Мы и так маленькие. А вы хотите нас еще уменьшить…
— Можно, я буду называть вас Онумушка?
— Это нецензурно, — ответил японец, — видите, наши подруги прыснули со смеху. Никогда не называйте меня так, очень прошу вас.
Токийский шофер подвез Люса к полицейской будке и показал пальцем на молоденького высокого парня в белой каске.
Полицейский дважды переспросил Люса, а потом облегченно вздохнул:
— Понятно. Теперь понятно. Это в седьмом блоке. — И он объяснил шоферу, как проехать к частной клинике, которая помещалась неподалеку от токийского небоскреба Касумигасеки.
«Это совсем рядом, вы легко найдете, — сказал ему на прощание Онума, — полиция в крайнем случае поможет вам, у них есть специальные путеводители…»
Клиника была крохотная — всего пять палат. Тихо, ни одного звука, полумрак…
Выслушав Люса, дежурная сестра утвердительно кивнула головой и, молча поднявшись, пригласила его следовать за собой.
Исии лежала в палате одна. Палата была белая — такая же, как лицо женщины. И поэтому ее громадные глаза казались двумя продолговатыми кусочками антрацита; они блестели лихорадочно, и, когда она закрывала глаза, казалось, что в палате становится темно, как в шахте.
— Здравствуйте, — сказал Люс. — Вас уже предупредили, что я приду?
— Нет, — ответила женщина. — Кто вы?
— Я друг Ганса.
Темно в палате, очень темно.
— Вы ждали меня?
— Нет. Я вас не ждала.
«Надо включить диктофон. Я не скажу ей об этом. Она знала о моем приходе. Ее предупредили — в этом я сейчас не мог ошибиться».
Женщина молчала; ее лицо побледнело еще сильнее.
— Я друг Дорнброка, — повторил Люс.
«Я сейчас должен получить от нее то, за чем ехал сюда. И я получу это. Если я ничего не получу — тогда, значит, я действительно слизняк и мразь… Она знает, из-за чего погиб Ганс, из-за чего они взорвали Берга, она знает! А если нет, тогда я просто не знаю, что делать дальше… Но она знает что-то, поэтому она соврала, сказав: „Я вас не ждала“. Она ждала меня».
— О ком вы говорите? — спросила женщина. — О каком Гансе?
— О Гансе Дорнброке…
— Вы, вероятно, спутали меня с кем-то… Я в первый раз слышу это имя. Кто он?
— Он? («Ну что же, прости меня бог, но я не могу иначе. „К доброте — через жестокость!“ Так, кажется? Это трудно, ох как это трудно и гадко быть жестоким!») Вы спрашиваете о Гансе Дорнброке?
— Да.
— Один хороший парень, но крайне нестойкий по отношению к женщинам. — Люс хохотнул: — Он собирал коллекции женщин по всему миру…
Ах как светло в палате, глаза-шахты широко раскрыты, в них гнев и бессилие!
«Ну говори! Скажи мне то, что ты должна сказать! Кто запретил тебе говорить о нем? Кто?!»
Темнота. Тишина. Капли пота на лбу и висках.
— Простите, но я не знаю Ганса…
«Есть много методов, — подумал Люс. — И Брехта, и Феллини, и Станиславского, и Годара, и Уолтер-Брайтона… Хотя нет, у него способ, а не метод. Или наоборот… И потом, он не режиссер, а физик… Очень славный человек… При чем здесь способ? Ах да, вспомнил… Ну-ка давай, Люс, выбирай точный метод — только единственный метод поможет тебе в работе с этой актрисой. Одних надо злить, с другими быть нежными, третьих брать интеллектом, четвертые — обезьянки, им надо показывать и следить за тем, чтобы они тебя верно скопировали. Но это самое скучное. Лучше всего, если актриса или актер поймет тебя. Тогда забудь горе: у тебя появилось твое второе „я“, ты стал сильным, все то, над чем ты работал долгие месяцы, сделалось сутью актера, его жизнью. Облако Уолтер-Брайтона — как я сначала не обратил на это внимания, а?! То радиоактивное облако, за которым он наблюдал. Которое унесло семь жизней. И унесет еще двести — триста. Как мне трудно было связывать облако с радиоактивными частицами после взрыва новой бомбы, полет Ганса в Гонконг, тошноту „беременной“ Исии и слова доктора из британской колонии, который так смеялся над версией „беременности“: „Она ведь родилась в Хиросиме через десять дней после атомного взрыва!“ А после водородного взрыва она сидела в том городе, над которым прошло новое радиоактивное облако… Это не моя работа — заниматься сцепленностью фактов, моя работа — это взаимосвязанность характеров… Впрочем, сейчас вроде бы я на пороге этой работы. Люс, не ошибись!»
— Вы настаиваете на этом утверждении? Вы не знаете Ганса Дорнброка?
— Не знаю.
«Как меня тогда стегал Берг? „Вы лжете! Порошок с ядом был в вашей спальне… Такой же, каким отравился Ганс“. „Лгали“, а не „врали“. Спокойствие слова — свидетельство силы».
— Зачем вы лжете, Исии-сан?
Женщина, не открывая глаз, повторила!
— Я не знаю Ганса…
— Шинагава-сан… Это имя вам знакомо?
— Да.
— Это ваш продюсер?
— Да.
— Он мне рассказал о том, как вы гадали Гансу…
Снова свет в палате. Быстрый, отчаянный, страшный…
— Я многим гадала. Я не знаю имен тех, кому я гадала.
— Надеюсь, имена людей, которые снимали для вас особняки, вы помните? Может быть, вы вспомните, кто снимал вам особняк на Орчард-роуд?
И женщина заплакала.
«Она плохо плачет, — подумал Люс, откинувшись на спинку белого стула. — Она играет эти слезы. Она не играла, лишь когда я назвал Ганса негодяем, который коллекционирует женщин. Почему она играет так фальшиво? Хотя это понятно — у нее были не те режиссеры…»
— Итак, вы знаете Ганса?
Она прошептала:
— Да.
— Почему вы лгали?
— Я боюсь его мести… Я боюсь, что он будет мстить мне…
— Мертвые не мстят…
Женщина вскинулась с кровати. Ослепительный свет в палате, глаза режет — как светло сейчас здесь!
— Кто мертв? Кто?!
«Она ничего не знает… Сейчас я мог проиграть. Как страшно я думаю — „мог проиграть“. Черство и страшно. Может быть, Нора права — я садист? И мне доставляет наслаждение мучить людей?»
— Будь он для вас живым — вы бы так себя не вели… Желай он вам мстить — разве бы он прислал к вам своего друга? Я так заметен в вашей клинике… У вас ведь только пять комнат и один врач — неужели вы считаете европейцев такими дурачками? Ганс отомстил бы вам иначе. Просто для вас он мертв… Прошедшая любовь всегда мертва, потому что… Не плачьте… Говорите правду,
— Потом вы сразу уйдете. Тогда я скажу.
— Хорошо. Скажите, и я уйду.
Вдруг она поднялась с подушек и, ослепив его светом громадных глаз, нестерпимым, как у умирающего оленя, черным, ясным, спросила:
— Ганс в Японии?
— Да.
— Тогда почему он не пришел сам? Почему?! Он знал, где я! Почему он не пришел?! Вы говорите неправду, — опустившись на подушку, сказала она потухшим голосом. — Мне трудно видеть вас, потому что ваши глаза в тени, но все равно вы говорите неправду. Он ведь не прислал с вами никакой записки? Ведь нет же… Мертвые не мстят, — свет в палате потух, глаза закрыты, — вы правы. Я чувствовала смерть, но это была не его смерть… В тот день я почувствовала мою смерть…
— Когда это было?
— Какая разница, — устало ответила Исии. — Двадцать второго ночью я умерла, но дух пока еще в теле…
Сначала Люс испугался, но потом внутри все у него напряглось, и он подумал: «Вот сейчас она не играет, сейчас она станет моим „альтер эго“, потому что я чувствую ее, боюсь ее и восхищаюсь ею… Вот сейчас я задам последний вопрос, и тогда все решится… Только надо спросить ее очень спокойно, нельзя, чтобы меня выдал голос… Ты же актер, Люс, нет лучшего актера, чем тот, кто пишет или ставит, ну-ка, Люс, ну-ка!»
— Я не спросил, что с вами. Когда вы должны выйти из больницы? Он просил меня узнать об этом…
«Ну, я подставился… Видишь, как я чувствую тебя… Ты даже не смогла скрыть усмешки… Презрительной усмешки… Я таких еще не видал в Японии, вы же все такие воспитанные».