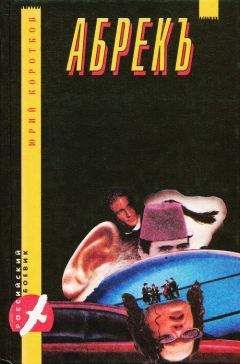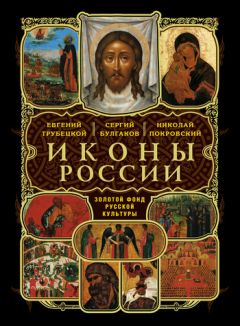уже сто лет не знал этого шестидесятилетнего еврея, голову которого некогда украшала пышная, темно-каштановая курчавая шапка, а теперь венчали только жиденькие островки седых волос.
— Ларик? Рад тебя слышать, — засвидетельствовал свое почтение Натансон, выдавая свое истинное происхождение тем самым акцентом, без которого не могут обойтись бывшие одесситы, даже прожившие в Америке едва ли не всю свою жизнь.
— Рад и я тебя слышать, Марк, — отозвался Воронцов, для которого Натансон уже давно превратился из опытнейшего юриста и владельца нотариальной конторы в доброго, хорошего товарища, на которого можно было не только положиться в трудный момент, но и поплакаться порой в жилетку. — Не занят, случаем?
— Для тебя я всегда свободен, — хмыкнул в трубку Натансон, видимо почувствовав в голосе Воронцова скорбные нотки: — Случилось что?
Воронцов вдруг осознал, насколько трудно будет произнести то, что он должен сказать Натансону. Словно последний гвоздь заколачивал в гроб близкого ему человека:
— Игорь умер. Державин.
Пауза, которая могла бы сказать больше многих слов, и наконец всё то же гортанно-крикливое:
— Но он же… всего лишь три дня назад… Это не утка, случайно?
«Какая на хрен утка!» — едва сдержался, чтобы не выругаться Воронцов.
— Из посольства звонили. Так что, сам понимаешь, никакой дезы быть не может.
— Это уж точно, — скорбным голосом согласился с графом Натансон. — Эти люди шутить не умеют. Ох же мама моя, мамочка!
Он оборвал свои причитания, которые могли длиться бог знает сколько, и с какой-то остервенелой настырностью в голосе спросил:
— А ты уверен, что он умер? Не убили, случаем?
— Типун тебе на язык! — едва не поперхнулся Воронцов. Хотел было сказать, что сейчас не тридцать седьмой год, когда в России шлепали направо и налево, и не та, мол, Игорь Державин фигура, чтобы из-за него международный скандал разгорелся, однако вместо этого только пробормотал в трубку: — Мне Хиллман звонил, а ему скрывать нечего. Умер Игорь, умер! Острая сердечная недостаточность.
Однако Натансона словно заклинило на своей догадке.
— Шутить, может, они действительно не умеют, однако насчет того, чтобы лапши на уши навесить да выдать черное за белое — на это дело мастаки. И то, что Игорь взял да ни с того ни с сего Богу душу отдал в затраханной Москве… не очень-то мне верится в это.
«Ишь ты, евреи хренов! — обиделся за Россию Воронцов. — Москва для него затраханной стала».
Он уж хотел было посадить на задницу зарвавшегося Натансона, которого еще мальчонкой сопливым вывезли из Одессы и которому всю жизнь впаривали, что все еврейские беды — от большевистской России, которую сами же сделали таковой, но вовремя подумал, что сейчас не время и не место для подобных дискуссий, и на всякий случай спросил:
— С чего это вдруг тебя на убийство понесло? Говорят же тебе, умер человек!
— А с чего бы ему умирать? — вопросом на вопрос ответил Натансон. — Жил не тужил мужик, да и шесть десятков — это не тот возраст, когда о душе начинают думать.
— Ну, это, положим, кому как повезет, — хмуро отозвался Воронцов, вспомнив свою «графинюшку».
— К тому же ты сам знаешь, что он не хотел ехать в Россию, — крикливым бормотанием, при котором он как бы глотал окончания слов, оборвал Воронцова Натансон. — Не хотел! И поверь мне, я его хорошо понимал. И когда он попросил меня помочь ему составить завещание…
— Чего-чего? — не понял Воронцов. — Какое еще завещание? Он что, был у тебя перед отлетом?
— А ты что, не знал? — в свою очередь удивился Натансон.
— Знал бы, не спрашивал.
— Конечно был! — как о чем-то само собой разумеющемся подтвердил Натансон и вновь не смог сдержать своих чувств по отношению к бывшей родине: — Все-таки в Россию летел, а не в джунгли Новой Гвинеи. И как видишь, будто в воду смотрел, когда завещание составлял.
Последние слова он произнес с интонацией всемирного укора для тех дурачков волны первой эмиграции, кто по чисто русской наивности еще верит в то, что что-то могло измениться в якобы новой России.
— И поверь мне, граф, если тебя начали гноить, тебя будут гноить при всех режимах, будь там президентом хоть Сталин, хоть Брежнев, хоть нынешний Медведев.
— Ладно, старый хрен, об этом мы с тобой потом потолкуем, — отозвался Воронцов, которому не очень-то нравились нападки на ту Россию, в которой мечтала быть похороненной его «графинюшка». — Ты лучше мне скажи, что это за завещание такое?
— Не по телефону. Единственное, что могу сказать, так это то, что всё свое состояние он завещал двум женщинам в России. Его дочь и вроде бы как его несостоявшаяся жена.
— Злата и Ольга Мансуровы?
— Ну вот, ты и сам все знаешь. И еще вот что, — пробубнил Натансон, — я бы на твоем месте нанял приличного детектива и отправил его в Москву. Уверяю тебя: нечисто все это. В общем, приезжай, жду!
Не очень-то верил в естественную смерть известного на весь мир эксперта по искусству и следователь Следственного управления при Московской городской прокуратуре Семен Головко. Правда, тому были свои причины: столь же внезапный, как и смерть Державина, сердечный приступ дежурной по этажу, которая, как удалось выяснить Семену, никогда до этого дня не жаловалась на сердце. И как только ему разрешили переговорить с ней…
Припарковавшись на парковочной площадке Кардиологического центра, куда была доставлена Зинаида Афонина, Головко поднялся на третий этаж больничного корпуса, и лечащий врач буквально в двух словах обрисовал ему общее состояние больной.
Оклемалась девушка. Да и то только потому, что портье гостиницы срочно вызвал «скорую» и ее доставили «куда надо, а не в коридор какой-нибудь больнички». На данный момент ее состоянию ЗДОРОВЬЯ уже ничто не угрожает, но покой, само собой, необходим. Короче говоря, больную нельзя волновать, тем более травмировать острыми вопросами, что и было Семеном клятвенно обещано.
Судя по растерянной улыбке дежурной по этажу, которая последней видела Державина живым, она уже была предупреждена о приходе следователя и теперь, видимо, гадала, с чего бы это ее скромной личностью заинтересовался этот высокий голубоглазый блондин.
Головко не стал тянуть время, как, впрочем, не очень-то спешил и раскрываться перед Афониной. Только учтиво представился да сказал еще, чтобы она не волновалась особо, так как к ней лично у него нет никаких претензий.
Кажется, сработало. По крайней мере в ее взгляде уже не было прежней тревоги и настороженности.
Присев на краешек стула, что стоял подле кровати, Головко спросил участливо:
— Как вы себя чувствуете? Может, я не вовремя?
— Да нет, что вы! — спохватилась Зинаида. — Сейчас