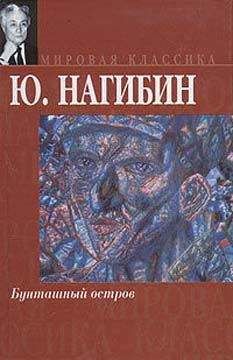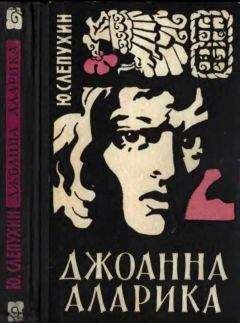Ознакомительная версия.
«Сантьяго» шел на этот раз в Гамбург. На пятнадцатый день плавания температура начала падать, в Бискайском заливе их встретила осенняя непогода — на шлюпочной палубе было уже не позагорать, аргентинские свитеры не спасали от пронизывающего норда. Полунин, чтобы не торчать в кубрике, приходил греться в машинное отделение — любовался обманчиво невесомой пляской многотонных шатунов, бесшумными взмахами кривошипов, жирным блеском надраенной стали и латуни. В старой технике есть своя привлекательность, а машина «Сантьяго» — вертикальная, тройного расширения — была реликтом тех времен, когда еще не знали массового производства, каждый болт вытачивался и шлифовался вручную. Размеры ее устрашали — огромный цилиндр низкого давления, с обшитым деревянными рейками защитным кожухом верхней части, высился как башня, весь опутанный тонкими и толстыми трубами, лесенками, решетчатыми площадками и мостками. Иногда Полунин видел здесь Свенсона — тот бегал по трапам с ловкостью старой обезьяны, быстрый и деловитый, совсем не похожий на вечно пьяного забулдыгу, каким бывал дома.
Они благополучно миновали занавешенный туманом Ла-Манш, где в тусклых сумерках хрипло и угрожающе взвывали сирены встречных судов, потом ледяная бутылочно-зеленая вода Северного моря сменилась темной водой Эльбы. Над Гамбургом тоже стояла мгла, где-то за кранами и пакгаузами глухо рокотал, звенел трамваями и перекликался автомобильными гудками огромный чужой город. Полунин не стал сходить на берег — у него не было желания видеть Германию даже спустя десять лет, какой бы процветающей и денацифицированной она ни стала. Пшеницу быстро выгрузили, кран принялся снимать с железнодорожных платформ и опускать в трюм огромные ящики, крупно маркированные трехлучевой звездой в круге и отбитой по трафарету надписью «Мерседес Бенц Аргентина». Вероятно, это было оборудование для строящегося под Буэнос-Айресом автозавода. Полунин слышал об этой стройке, на том скаутском балу, в августе, кто-то ему говорил, что сейчас многие идут на «Мерседес»…
Он стоял, облокотившись на релинг, и неприязненно наблюдал за слаженной работой докеров. Большинство были молодые, но попадались и постарше, — некоторые вместо пластмассовых защитных касок носили традиционные темно-синие фуражки с лакированными козырьками, в какой изображался на портретах Эрнст Тельман. Возможно, это были самые обычные люди, рабочие, знаменитый немецкий пролетариат, когда-то один из самых сознательных в Европе. Тем более — гамбуржцы, — город, можно сказать, с революционными традициями. Строго говоря, не было никаких оснований смотреть на докеров с неприязнью — если не считать того, что каждый старше тридцати, вероятно, носил в свое время мундир со свастикой. Но неприязнь оставалась, разумная или неразумная, тут уж Полунин ничего не мог с собой поделать. Он принадлежал к поколению, для которого не так просто было подчинить доводам трезвого рассудка свое отношение к Германии и к немцам…
Он был рад, когда «Сантьяго» тронулся в обратный путь. Из устья Эльбы выходили утром, — позади, за плоским побережьем земли Шлезвиг-Гольштейн, вставало из тумана багровое студеное солнце. Где-то по этой равнине шел к северо-востоку Кильский канал, за ним лежала Балтика — двое суток ходу до Ленинграда. Впервые за много лет Полунин думал сейчас о родном городе без привычной тоски — не как изгнанник уже, а просто как человек, который слишком долго не был дома и предвкушает скорое возвращение. Хорошо бы весной, к белым ночам…
Но пока он плыл обратно на юг — к черным, пылающим чужими созвездиями ночам низких широт. На третий день прошли по левому борту желтые скалистые берега Астурии. Южнее Канарских островов сильно штормило при ослепительно ясном небе, старик «Сантьяго» скрипел и стонал всеми переборками, переваливаясь с борта на борт, и то медленно задирал нос, то вдруг тяжко проваливался во внезапно расступившуюся перед форштевнем седловину — сотни тонн атлантического рассола с пушечным грохотом рушились на бак, кипящими водоворотами омывая лебедки, брашпили, протянутые по палубе якорные цепи. Пенистые потоки еще низвергались за борт через шпигаты и клюзы, а наперерез судну уже шел, грозно взбухая и набирая силу, новый водяной холм — мутно-зеленый, с мраморными разводами в основании, стеклянно просвеченный солнцем в своей верхней части, дымящийся срываемой с гребня пеной.
Перед тропиком Рака океан утих, и вторая половина обратного пути была спокойной. К Буэнос-Айресу подходили утром, сквозь голубую дымку медленно проступала, розовея на солнце, панорама порта — батареи элеваторов, серебристые цилиндры нефтехранилищ, мачты, трубы, надстройки, километры причалов и пакгаузов, геометрическое кружево кранов. Здесь лето было в разгаре — около десяти утра, когда Полунин сошел на берег, термометр показывал тридцать два градуса в тени, но сейчас даже эта жара была приятна, после Гамбурга Буэнос-Айрес казался удобным, привычным, обжитым…
Он не стал связываться с транспортом, пошел пешком через Пласа-де-Майо. У подъездов Розового дома, вместо традиционных конногренадеров, пестро одетых в мундиры эпохи Сан-Мартина, стояли в караулах автоматчики морской пехоты в стальных шлемах, счетверенные стволы эрликонов смотрели в небо с крыши дворца, поверх лепнины карнизов; президент Арамбуру (уже второй по счету после сентябрьской «революции»), судя по всему, чувствовал себя не очень уверенно…
Полунин шел по Диагональ Норте, с удовольствием ощущая под ногами прочные плитки тротуара, не подверженные ни бортовой, ни килевой качке. С непривычки даже пошатывало. Жара, однако, давала себя знать — дойдя наконец до улицы Талькауано, он устал и взмок, словно просидел одетым в парилке. Квартира встретила его отрадной прохладой. Он поставил под вешалку свой чемоданчик и еще не успел снять пиджак, как дверь его комнаты с грохотом распахнулась и в прихожую выскочил Лагартиха, держа перед животом автомат.
— Карамба, это вы! — воскликнул он с облегчением. — А я чуть было не засадил очередь через дверь — думал, за мной пришли…
— Ну, знаете, — сказал Полунин, не сразу опомнившись, — и шуточки же у вас, Освальдо…
— Мне не до шуток, че, за мной уже неделю бегает половина федеральной полиции, — Лагартиха щелкнул предохранителем, повесил автомат на вешалку и обнял Полунина. — Дон Мигель, ваша квартира второй раз спасает мне жизнь!
— Так, так. Опять, значит, в активной оппозиции. Ну, а теперешнее правительство чем вас не устраивает?
— Какое «правительство», не смешите меня! Если эти гориллы в адмиральских погонах думают, что мы для них делали революцию…
— А для кого же еще? — спросил Полунин. — Вспомните наш разговор в августе.
Он прошел в комнату. По столу были разбросаны исписанные листы бумаги, стояла портативная пишущая машинка, лежала книга в истрепанной бумажной обложке — «Техника государственного переворота» Курцио Малапарте.
— Я не знал, когда вы вернетесь, — сказал Лагартиха, — поэтому и позволил себе это вторжение. Но завтра или послезавтра я все равно уезжаю, так что…
— Опять в Монтевидео? — спросил Полунин, листая книгу.
— Куда же еще…
— Освальдо, должен вас предупредить об одной вещи: недавно я обратился в советское посольство с просьбой о визе. До сих пор я для аргентинских властей был апатридом, но теперь…
— Понимаю, — сказал Лагартиха — Хорошо, что вы сказали, это существенно меняет положение. Я уйду сегодня.
— Не обязательно сегодня, я вас не выпроваживаю, но просто хочу, чтобы вы знали — на будущее.
— Я все понимаю, — повторил Лагартиха. — Меня точно так же не устраивает обвинение в контактах с советскими гражданами, как советского гражданина — обвинение в контактах с аргентинскими подпольщиками.
— Но у вас есть куда уйти?
— Что за вопрос! Половина Буэнос-Айреса — мои единомышленники. Не беспокойтесь об этом, дон Мигель, у нас десяток конспиративных квартир. Так вы, значит, решили ехать в Советский Союз?
— Решил.
— Ну и правильно, действовать нужно изнутри, — одобрил Лагартиха. — У вас там сейчас складывается интереснейшая ситуация, обозреватели очень многого ожидают от партийного конгресса.
— Посмотрим, — Полунин улыбнулся. — Я, кстати, не собираюсь «действовать», мне просто хочется жить у себя дома.
— Ладно, ладно, я ни о чем не спрашиваю — уж мы-то с вами, дон Мигель, понимаем друг друга с полуслова. Так я тогда сейчас пойду договорюсь насчет запасного убежища…
— А выходить днем не опасно? Вы ведь говорили, за вами следят.
— Ну, не буквально на каждом шагу… — Лагартиха принес из прихожей автомат, быстро разобрал его, отделив приклад, ствол и магазин, и рассовал все это по отделениям объемистого портфеля. Туда же поместилась рукопись, книга Малапарте и скомканная сорочка.
— Оставлю внизу в баре, — объяснил Лагартиха, убирая в футляр пишущую машинку, — вечером зайдет мой человек, заберет. Ну что ж, дон Мигель, если мы больше не увидимся — от души желаю всего самого доброго!
Ознакомительная версия.