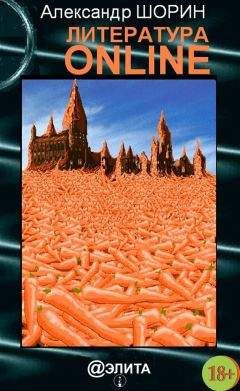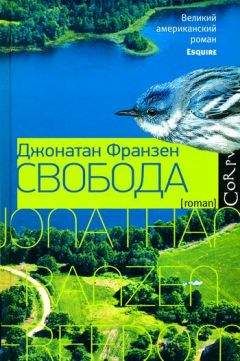параллельного емкости одиночного эритроцита или системы эритроцитов… И так далее и тому подобное, а теперь, дочка спать пора, утро вечера мудренее».
Брагину приснился под утро мистический сон, как всегда, из коллоидной липкой смеси яви и неяви. Обычно он запоминал, просыпаясь, только какую-то часть сна, и то далеко не знаковую и первостепенную. А здесь свежим утром запомнил сон целиком, потому что он коснулся своим волшебным крылом его тайных сокровенных дум и наработок интеллектуального прорыва. Какая разница, исполнится или не исполнится всё то, что ему предвиделось под утро? Ему были поданы тайные знаки, которым он мог распорядиться с абсолютной свободой выбора. Но мог и проигнорировать чудные и нелепый подсказки из смеси яви и неяви…
Первым делом он подбежал к книжной полке, где стоял зелёный том советского энциклопедического словаря под редакцией академика Нобеля – Прохорова. Открывал на странице, где чёрными жирными буквами было напечатано слово «Жизнь». Он автоматически прочитал выделенные чёрным слова перед «Жизнью»: «Жидовствующие», «Жижка», «Жизненная емкость легких», «Жизненная форма», «Жизнеобеспечение». А сверху на следующей страницы металлической скрепкой были прикреплены два электронных лазерных диска (CD-RW), завернутые в бумажный макет гранок журнала «Юности». На двухполосном развороте гранок были его стихи, имя и фотография его лица от макушки по шею, которую в давние полузабытые доцентские времена сделал редакционный фотограф Лёня Шиманович. Брагин имя фотографа вспомнил мгновенно, потому что его никогда не стремился запоминать – всего-то раз в жизни встретились и разбежались.
Как-то откладываются в памяти всегда последние фразы и слова, прозвучавшие при прощальном рукопожатии. Вот эту фразу Лёни Шимановича Брагин запомнил: «Будем надеяться, что цензура публикацию не зарубит». Самое смешное, что накаркал фотограф «Юности». Это босой Брагин моментально вспомнил всё забытое и полузабытое, прокручивая последовательность и очередность событий тех лет. Подборка его стихов был отобрана редактором отдела поэзии Леонидом Латыниным, который при вызове в редакцию представил его как автора заведующему отделом поэзии Натану Марковичу Злотникову. Тот уж читал стихи, заново пробежал глазами по подборке ровно на двухстраничный разворот, заулыбался: «Прекрасно. Помню эти стихи. Будем печатать. Номер планировать сейчас бессмысленно, может, быстро напечатаем, может, не быстро. Всё равно когда-нибудь напечатаем со стихотворным паровозом подборки: «Гармошка маршала Жукова». Вам позвонят, чтобы вы заехали в редакции к нашему фотографу».
Действительно, позвонили, сначала Латынин, потом Злотников. Трубку телефона во время Брагинских командировок брала Наташа, передавала просьбы явиться в редакцию на сьёмки. Правда, Брагин обратил внимание, что сообщает об этом супруга как-то не вовремя, почти в дверях, когда он собирался отъезжать, то в аэропорт, то на вокзал. Как всегда, он куда-то опаздывал, ездил по Союзу внедрять программы и экспериментальные стенды с кем-то из своих аспирантов, выйдя уже на финишную прямую защиты докторской диссертационной работы. У Брагина была странная, возможно, отвратительная черта характер: был в работе диким педантом и занудой, никого из «своих» не хотел подводить и никогда не опаздывал при уплотненном ритме жизни и вечной нехватке времени.
Но, когда он выезжал вечером в Воронеж, НПО «Электроника», заскочил в «Юность», тут же созвонившись с Шимановичем. Сфоткался с намыленной шеей и побежал на вокзал. Еле успел заскочить в последний вагон отъезжавшего поезда. Лёжа на верхней полке купе, думал странно и отрешенно об изменении своих жизненных интересов, планов и надежд. Вот он, вроде бы, успех – долгожданная публикация в «Юности» в обозримой перспективе. Только кому из коллег его круга, математиков, физиков, программистов, преподавателей об этом расскажешь. Посмотрят, как на юродивого с не застегнутой ширинкой, скажут не доброжелательно, а то и брезгливо в сторону о выскочке: «Несерьёзный мужик. Не за своё время взялся. Здесь на жену и семью времени не хватает, а он, идиот, стишки пишет и публикует на заборах, как подзаборник».
В лист гранок журнала были завернут три электронных диска Брагина с его наработками разных версий программ и алгоритмов, тестов, забиваемых на диски материалов заявок его изобретений и патентов, одним словом, всякая всячина по «серьёзному делу». И за гранками, наверное, Наташа ездила когда-то. А потом он сам позвонил Латынину, мол, когда? А тот не мычит, не телится: «Гармошку» цензура зарубила. Без паровоза придется вагончики подборки компоновать заново, сокращать до одной страницы». Больше Брагин в редакцию никогда не звонил, не интересовался судьбой своей рассыпанной подборки. Не до этого защитившемуся на ура доктору и «кэкалду» в одном флаконе. Ничего он доктор-кэколд уже не хотел публиковать и зарекся, хватит. Но ведь для жизненного куража чего-то не хватало, особенно, тогда, когда он стал мотаться по заграницам с тем же нескрываемым интересом, как раньше, будучи «невыездным» объездил все края и веси СССР. И куча стихов, блокнотов с ними – под дивное сухое красное французское вино, под марочные коньяки и виски со льдом…
В своей новой жизни, много общаясь по работе с полковниками – военными интеллектуалами, ребятами из ГРУ и СВР – Брагин поинтересовался в силу своего здорового любопытства: почему даже во времена позднего Брежнева не могли напечатать его «Гармошку маршала Жукова»? По-дружески объяснял своим новым коллегам и приятелям, мол, об этой гармошке маршала ему в детстве все уши прожужжал дядька-фронтовик. Сам видел эту гармошку, даже слушал раз, но поодаль где-то под конец войны в Германии, только что играл именно маршал, на все сто процентов не уверен. Суров, жесток был маршал, близко к себе не подпускал.
Вот и спрашивал Брагин своих военных осведомлённых коллег, за что Хрущев с Брежневым, их соратники и цензоры боялись даже лишнего упоминания имени маршала, не только восхваления в стихах его гармошки. Потом в новых временах, Брагин опубликует в своей книжке «Гармошку». А тогда спрашивал: «К чему тут цензуре придираться». Читал на выбор несколько строф из стихотворения: «…Война кончается. И в тишине плывёт щемящее и нежное гармошки. Такое только раз один найдёт и вымучает душу без оплошки. Берлинские страдания мехов… Всё впереди, но почему так грустно? Мелодия кручинушки лихой пробилась к небу из души мятежной русской… И маршальская дума высока, и всхлип гармошки под германским небом уберегут от смерти и штыка солдат за миллиметры до Победы. Но миллиметры – это в небеса уход живой здесь армии безусой… Играет маршал, по щеке слеза скатилась на меха гармошки русской. Пошли… «Тридцатьчетвёрки» давят грязь. С его КаПэ к победному исходу по всем фронтам Европы разлилась гармошка, подымая вверх пехоту!»
В новых временах, в новой жизни Брагин дописал ещё пять строф к