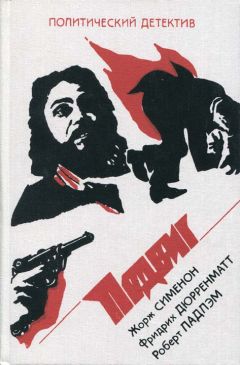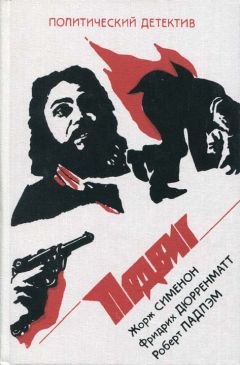Он довольствовался тем, что отвечал:
— Пресса сильно преувеличивает. Я кое-что набросал вчерне, но еще не уверен, получится ли из этого что-нибудь путное…
— Мне хорошо известно, что кое-кто уже дрожит.
С наивным видом он восклицал:
— О!
Он прекрасно знал, о чем шептались за его спиной и что осмелились даже напечатать в двух ежемесячных журналах: будто бы раздосадованный тем, что его окружили стеной молчания, забыли, он мстит некоторым людям, занимающим видные посты, держа их под неопределенной, но постоянной угрозой.
Он несколько дней подряд настойчиво спрашивал себя, не заключается ли в этом доля правды, и совесть его была не совсем спокойна.
Но ведь если бы это действительно было так, он не стал бы продолжать свои заметки и у него хватило бы честности уничтожить все, что было им до сих пор написано.
Он дожил до того преклонного возраста, когда уже нельзя быть нечестным с самим собой.
Он решил не отступать от своего намерения именно из-за Шаламона, своего бывшего секретаря, о котором только что говорили по радио, и вовсе не потому, что личность Шаламона была незаурядной, а потому, что поступок его был типичным.
По всей вероятности, как на это намекали в передаче, президент республики собирался поручить Шаламону формирование нового правительства.
Когда его однажды спросили, есть ли у его бывшего секретаря шансы попасть в состав правительства, он сухо ответил:
— Пока я жив, он никогда не будет председателем Совета министров. — И, сделав паузу, как если бы хотел подчеркнуть значительность своих слов, он прибавил: — Но и после моей смерти — тоже.
Шаламон, безусловно, запомнил, что сказал тогда его давнишний шеф.
В этот самый час, когда буря силилась сорвать черепицу с крыши и оторванная наружная ставня с грохотом колотилась о стену дома, Шаламон находился в Елисейском дворце, а во дворе, под проливным дождем, журналисты ждали его ответа.
Дверца «роллс-ройса» открылась и закрылась. Через минуту в приемнике, стоявшем на дубовом столе, послышалось потрескивание. Президент сел в свое кресло «Луи-Филипп», сложил руки и, закрыв глаза, тоже стал ждать.
Сначала по радио передали несколько коротких телеграмм:
«Париж… Последние политические новости… Сегодня в пять часов пополудни президент республики принял в Елисейском дворце господина Филиппа Шаламона, лидера группы левых независимых, и предложил ему сформировать коалиционное правительство. Депутат шестнадцатого округа обещал сообщить свой ответ завтра утром. В конце передачи слушайте краткое интервью, которое господин Шаламон дал нашему сотруднику Бертрану Пикону… Сент-Этьен… Пожар, возникший прошлой ночью на фабрике электрической аппаратуры…»
Президент не стал слушать дальше и продолжал сидеть неподвижно, искоса посматривая на одно из поленьев, которое каждую минуту грозило скатиться на пол. Уже два или три раза оно с треском вспыхивало при порывах ветра. В конце концов Президент встал и осторожно, так как не забыл о своей ноге, присел на корточки перед камином и щипцами восстановил в нем порядок.
Ему пришлось ждать целых полчаса. Один за другим корреспонденты французского радиовещания передавали последние известия из Лондона, Нью-Йорка, Будапешта, Москвы, Бейрута, Калькутты. Прежде чем снова усесться в кресло, он несколько раз медленно прошелся вокруг стола, поправил фитиль керосиновой лампы.
«Передаем спортивные новости…»
Через пять минут настанет очередь Шаламона.
Затем послышался невнятный шум, продолжавшийся, пока радиопередачу не переключили на магнитофон, так как интервью было записано на пленку. Это было заметно по тому, как изменился звук. Судя по голосам, звучавшим иначе, чем прежде, микрофон был установлен на открытом воздухе.
«— Дамы и господа, сейчас без четверти шесть. Мы находимся во дворе Елисейского дворца — несколько моих коллег по перу и я… В Париже, под аккомпанемент ветра и дождя, подходит к концу восьмой день министерского кризиса, и, как и в предыдущие дни, в политических кругах оживленно обсуждают создавшееся положение. В настоящий момент вопрос заключается в следующем: будет ли у нас правительство Шаламона? Немногим более получаса назад господин Филипп Шаламон, приглашенный господином Курно, вышел из своей машины и быстро поднялся по ступенькам крыльца, жестом дав нам понять, что пока ничего сказать не может. Лидер группы левых независимых, депутат шестнадцатого округа, чей портрет часто появляется в газетах, — человек энергичный и выглядит моложе своих шестидесяти лет. Он очень высокого роста, с лысеющим лбом и склонен к полноте… Как я уже сказал, идет дождь. Для всех нас не хватило места под навесом главного входа, где привратники разрешили нам укрыться, и одна из наших очаровательных коллег храбро раскрыла красный зонтик… Перед воротами, на улице Фобур Сент-Оноре, муниципальные гвардейцы исподволь наблюдают за небольшими группами любопытных, которые временами собираются на тротуаре… Внимание!.. Мне кажется… Да… Скажи, Дане, это он? Спасибо, старина… Простите… Мне сообщили, что господин Шаламон в эту минуту пересекает обширный, ярко освещенный вестибюль Елисейского дворца… Приглядевшись, я действительно вижу его… Он надел пальто. Он принимает из рук привратника перчатки и шляпу… Его шофер открыл дверцу машины… Сейчас мы узнаем, согласился ли он сделать попытку найти выход из кризиса».
Было слышно, как прошел автобус. Потом послышался непонятный шум, какой-то треск, отдаленные голоса…
«— Не толкайтесь…
— Пропустите меня, старина…
— Господин Шаламон…»
Снова раздался звучный, слегка манерный голос Бертрана Пикона.
«— Господин министр, я хотел бы, чтобы вы сказали слушателям французского радиовещания…»
Хотя Шаламон был министром всего три дня и фактически провел лишь несколько часов в здании на площади Бово, для привратников, курьеров, журналистов и всех посетителей Бурбонского дворца[2] он будет «господином министром» в течение всей своей жизни, подобно тому, как каждого, кто когда-либо председательствовал хотя бы в одной из второстепенных парламентских комиссий, всегда будут называть «господин президент».
«… и прежде всего сообщите нам, с какой целью господин Курно пригласил вас сегодня… Не правда ли, речь идет о том, чтобы поручить вам создать коалиционное правительство?»
Пальцы старика, сидевшего в кресле, совсем побелели. Он услышал смущенный кашель и наконец голос:
«— Действительно, президент республики оказал мне честь…»
В микрофоне раздался автомобильный гудок. Почему-то обитателю Эберга показалось, что Шаламон окинул взглядом темный и мокрый двор Елисейского дворца, как бы ища в нем чей-то призрак. В голосе Шаламона чувствовалась странная тревога. В первый раз, в результате упорных стараний, заполнивших всю его жизнь, ему предлагали управлять страной, а он знал, что где-то сидит у приемника старый человек — он не мог не подумать о нем, — и человек этот делает отрицательный жест.
Чей-то другой голос, вероятно, одного из журналистов, прервал течение мыслей Президента.
«— Можем ли мы сообщить нашим читателям, что вы приняли предложение и уже сегодня вечером начнете консультации?»
Молчание. Такое напряженное, что даже микрофон передал неуверенность, колебания Шаламона. Вернее, микрофон, от которого ничего не ускользает, подчеркнул их с особой силой, а затем послышался смех, не совсем понятный в такой момент, и веселое шушуканье.
«— Дамы и господа! Вы слышите смех наших коллег, который, поверьте мне, не имеет никакого отношения к словам господина Шаламона и одного из нас. Господин Шаламон резко взмахнул рукой, словно почувствовал чье-то неожиданное прикосновение, и мы заметили, что на его руку упали капли дождя с зонта журналистки, о которой я уже говорил… Извините за это отступление, господин министр, но иначе наши слушатели не поняли бы… Будьте любезны говорить в микрофон… Мы просили вас сказать…
— Я поблагодарил президента за честь, которую он мне оказал и за которую я очень признателен… и… гм… я попросил его… (послышался автомобильный гудок, совсем близко, очевидно, с улицы Фобур Сент-Оноре)… разрешите мне… я сказал ему, что должен подумать и смогу дать окончательный ответ только завтра утром…
— Однако ваша группа заседала сегодня в три часа и, по словам компетентных лиц, предоставила вам полную свободу действий.
— Совершенно верно…»
По-видимому, Шаламон пытался пробраться сквозь толпу журналистов к своему автомобилю, дверцы которого шофер держал открытыми.
Корреспондент радио счел нужным упомянуть в начале передачи о его склонности к полноте, ибо она прежде всего бросалась в глаза.
Шаламон отяжелел, как человек, бывший долгое время худым и еще не сумевший приспособиться к своей полноте. Двойной подбородок и круглый животик, казалось, были приставлены к нему, нос же оставался острым, а тонкие губы были едва заметны на обрюзгшем лице.