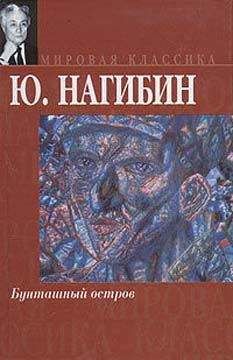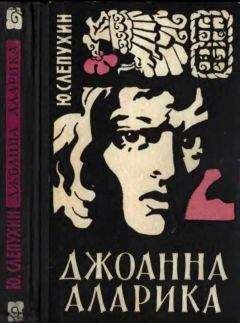Ознакомительная версия.
Тот июльский день в Петергофе навсегда остался для него едва ли не последним безоблачным воспоминанием о мирной жизни. Хотя до войны было еще далеко. Отец умер осенью тридцать девятого, незадолго до событий на Карельском перешейке, умер внезапно и милосердно — упал на улице Халтурина, возвращаясь с работы. Сам он был тогда уже на первом курсе, его вызвали с лекции…
— О чем, Михаил Сергеич, задумались? — спросил Балмашев.
— Да так, вспомнил… — Полунин, с трудом заставив себя улыбнуться, полез в карман за сигаретами. — Вы вот сказали — увижу отсюда Кронштадт, а поверить трудно.
— Хорошо, что возвращаетесь на нашем судне, — подумав, заметил Балмашев. — Будет, так сказать, время для адаптации — целый месяц. А представляете, например, самолетом? Сегодня здесь, а послезавтра уже дома — этакий сразу перепад…
— Тоже, наверное, интересно. Но вообще вы правы, лучше осваиваться постепенно.
— Практический вопрос — образование заканчивать намерены?
— Образование? Не знаю… не думал как-то об этом.
— А подумайте. Каким бы хорошим специалистом вы ни были, без диплома у нас трудно. Поэтому не советую терять время. Где вы учились, вы говорили?
— В институте Бонч-Бруевича.
— Ну, вот туда же и поступайте.
Полунин скептически хмыкнул:
— Легко сказать… Я уж, наверное, все перезабыл.
— Не беда — позанимаетесь, вспомните. Не обязательно в этом же году! А у репатриантов есть льгота, приемная комиссия это учтет. Ну, есть еще вопросы?
— Вопросов, Алексей Иванович, много, — помедлив, сказал Полунин. — Но я думаю, на них ответит сама жизнь.
Балмашев одобрительно кивнул:
— Вот это верно! Только постарайтесь правильно их формулировать. Понимаете, что я хочу сказать?
— Понимаю… Мне тут на прощанье Надежда Аркадьевна хорошо написала, — он достал коричневый томик из портфеля, раскрыл на странице с дарственной надписью и протянул Балмашеву. — Пожалуй, лучше не скажешь…
Балмашев надел очки, прочитал, задумчиво погладил переплет, обвязанный по краю тонким сыромятным ремешком.
— Ишь ты… Занятно придумали оформить, — так сказать, единство формы и содержания. А мысль Надежда Аркадьевна высказала мудрую. Очень мудрую…
Вернув книгу Полунину, он встал, прошелся по тесной каютке, посмотрел на часы.
— К тому, что она вам написала, добавить ничего не могу. И если вы сами чувствуете так же — я за вас спокоен, потому что личный опыт поможет вам впредь… находить правильную точку зрения, правильный взгляд на окружающее. Может быть, оно не всегда и не во всем отвечает нашим желаниям… что делать — жизнь есть жизнь… Но нужно уметь видеть ее трезво и мудро. И всегда очень четко отличать главное от второстепенного. Ну что ж, Михаил Сергеич, мне пора. Счастливого пути — и счастья на родине. Думаю, все у вас будет хорошо…
Проводив Балмашева до трапа, Полунин обошел судно, побывал на корме, поднялся на верхнюю палубу. Стеклянные створки люков были подняты, он заглянул — глубоко внизу, на дне выкрашенной белой эмалью шахты машинного отделения, лежали могучие тела четырех дизель-генераторов и два спаренных тандемом гребных двигателя. Общий ротор, что ли, подумал он, разглядывая сверху непривычную силовую установку.
По трансляционной сети объявили приглашение к обеду. Часть пассажиров вместе с провожающими повели куда-то в другое помещение, часть осталась в салоне, где обедал комсостав. Знакомый уже Полунину старший электрик — рыжеватый, с круглым добродушным лицом и облупленным от загара носом, на котором криво сидели модные очки в тонкой золотой оправе, — сделал ему приглашающий жест и хлопнул по сиденью свободного стула рядом с собой.
— Мы, кажется, коллеги, — сказал он, — товарищ из консульства говорил, вы тоже электротехникой занимаетесь?
— Слаботочной, вообще я скорее радист.
— От души завидую. А как насчет шахмат?
— Играл когда-то.
— Завтра можно будет сразиться — сегодня-то уж не выйдет, сегодня меня затаскают. И так еле вырвался пообедать… Судно, понимаете, новое, то в одном месте что-нибудь, то в другом. Если интересуетесь, зайдите потом ко мне, покажу свое хозяйство.
— Спасибо, зайду. Я уже полюбопытствовал — чистота у вас там.
— Чистота, да, — электрик посторонился, пропуская матроса, который поставил перед ними тарелки. — Но уровень шума… И то ведь обычно на двух дизелях идем — два в резерве. Там, знаете, вахту отстоять — это…
Доедая суп, Полунин подумал, что мрачный доктор был явно несправедлив, советуя утопить «кандея». Толстый немолодой пассажир, сидевший в другом конце стола, громко объявил, что уже много Лет не ел ничего подобного; в Аргентине, добавил он, людям вообще скармливают всякую гниль. Котлеты с жареным картофелем и зеленым горошком вызвали у него новый взрыв энтузиазма, но он тут же умолк, занявшись едой, — к облегчению Полунина, который уже начинал испытывать неловкость.
Когда наконец подали компот, электрик закурил и выложил пачку перед Полуниным.
— Воспользуемся отсутствием капитана, — подмигнул он, — тот курение за столом не одобряет… Он, правда, чаще у себя ест, — каюта-то в носовой надстройке, попробуй побегай туда-сюда по открытой палубе — а борт низкий, обратили внимание? Сюда шли в полном грузу, так волна в четыре балла — и уже одни надстройки из воды торчат…
За столом к этому времени стало посвободнее и потише. На другом конце шел сепаратный разговор, в котором участвовали стармех, доктор, толстый пассажир и кто-то из провожающих.
— … Нет, честное слово, — повысил голос толстяк, — я просто с трудом удержался, чтобы не кинуть этому сеньору в лицо ихнюю седулу [73] — нате, мол, получите, я теперь не ваш!
С этими словами он посмотрел направо и налево, словно ожидая поддержки со стороны слушателей. Но поддержки выражено не было, наступило несколько неловкое молчание.
— Ну, в лицо-то не стоило бы, наверное, — сказал кто-то.
— Нет, я бы, конечно, себе этого не позволил, — загорячился толстяк, — это уже инцидент, я понимаю! Но желание было. И вы, товарищи, должны просто понять, — он приложил к груди растопыренную руку, — после всего, что мы здесь вытерпели за это время, — то есть нет, вам это понять невозможно, советскому человеку просто не представить себе такого! Чтобы тебя ежедневно и ежечасно — на каждом то есть шагу — унижали, оскорбляли твое достоинство, вытирали об тебя ноги…
Он снова оглянулся вокруг себя и, встретившись глазами с Полуниным, протянул руку ораторским жестом.
— Вот товарищ — извиняюсь, не знаю по фамилии — товарищ скажет то же самое!
Взгляды сидевших за столом обратились на Полунина, тут уж было не отмолчаться.
— Не знаю, — сдержанно сказал он. — Мне служить половой тряпкой не приходилось…
— Нет, ну фигурально говоря, конечно, не в буквальном же смысле! Я говорю вообще об отношении — когда тебе всюду тычут в глаза, что ты «экстранхеро» [74], человек второго сорта, пока действительно не начинаешь себя чувствовать просто, понимаете ли, каким-то отверженным!
Полунин пожал плечами:
— С этим спорить не буду, в чужой стране действительно чувствуешь себя… не очень уютно. А насчет того, чтобы в глаза тыкали… Вы Аргентину имеете в виду?
— Конечно!
— Тогда это ерунда.
— То есть как это «ерунда», позвольте, — толстяк опять стал горячиться, — если для иностранца всегда самая тяжелая работа, самая низкая зарплата…
— Первый раз слышу, чтобы зарплата зависела от национальности. Какая у вас профессия?
— По образованию я — музыкант, но здесь, конечно, работал не по специальности. Здесь я был плотником. Строительным плотником, на опалубке…
— И вам платили меньше, чем аргентинцам?
— Конечно, меньше!
— За одинаковую работу?
— Да, представьте себе, за ту же самую работу!
Старший электрик, уже поднявшись из-за стола, задержался у двери, видимо заинтересованный этим дурацким спором. Полунин, ругая себя за то, что не отмолчался, допил свой компот и тоже встал.
— Может, быть, — сказал он примирительно. — Жулья, конечно, хватает всюду. Я только не понимаю, что вас держало в такой фирме, — ушли бы в другую, и дело с концом.
— Интересный вопрос — что держало! — взвизгнул толстяк. — Безработица держала, молодой человек, вот что! Да, представьте себе!
— Побойтесь вы бога, — с изумлением сказал Полунин, — какая, к черту, безработица с вашей специальностью? Да здесь все эти годы не было более дефицитной профессии, чем строительные плотники!
Толстяк пошел пятнами.
— Я… я не понимаю! Вас послушать — просто рай земной, да и только, — нет, в самом деле, товарищи! И отношение прекрасное, и безработицы никакой нет, и платят всем по справедливости! А ведь, между прочим, неувязочка получается! Если там так хорошо, — толстяк патетически указал на открытый в сторону причала иллюминатор, за которым в этот момент с железным гулом медленно проезжал рельсовый кран, — вы-то почему здесь, на советском судне, а?
Ознакомительная версия.