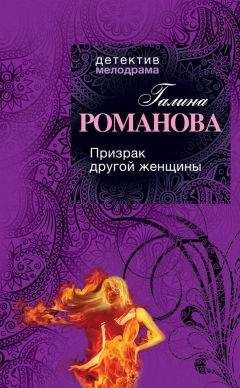Ознакомительная версия.
Галина Романова
Призрак другой женщины
Ужасная полоса в ее и без того незадавшейся жизни началась двадцать девятого февраля. Ни днем раньше, ни днем позже.
Все логично, если задуматься. Високосный год. Двадцать девятое февраля как раз его и знаменует своим присутствием в календаре. Так что удивляться было смешно и глупо. А она все равно удивилась! Удивилась, вздрогнув от громкого стука в ворота. Удивилась, насторожилась и затихла.
Кого черт несет? Вопрос резонный, поскольку просто так, без предупреждения в гости к ней почти никто не ходил, все больше по делам. Тем более таким ранним утром – на часах было семь тридцать. Тем более в воскресенье. И что с того, что она поднялась в шесть утра, хотя было воскресенье? И что с того, что она сидела, не включая света, и пялилась в темный прямоугольник незанавешенного кухонного окна? Никого же на улице не касалось, что она вскочила ни свет ни заря и уселась у окошка? Нет. Никто же не знал, что ее всю ночь мучили какие-то кошмарные кошмары, и в горле поэтому пересохло, и она выпрыгнула потная из койки и помчалась в кухню попить? Нет, не знал.
А кто тогда к ней ломится?! Чего кому надо?!
Катя плотнее вжалась в старенькое трухлявое кресло, стоящее у самого подоконника – сколько она себя помнила, оно всегда там стояло. И настырно уставилась за окно.
Высокие добротные ворота, бей в них кулаками, ногами, башкой – выдержат. Хвала бабке, упокой, господи, ее злобную грешную душу. Она расстаралась, выстроила и дом большой и крепкий, и забором обнесла из неструганого бруса, и воротами сей забор увенчала такими, которые натиск разрозненных вражеских сил выдержат запросто.
Так что тому, кто сейчас молотил по воротам со стороны улицы, придется убраться восвояси. Катя не откроет. И из дома не выйдет даже для переговоров. Она останется сидеть в трухлявом креслице и станет наблюдать за медленным рассветом, жиденькой полоской забрезжившим на востоке. Окна кухни как раз выходили на него.
Грохот прекратился минут через десять. Катя приподнялась, откинула до конца шторку, потянула на себя форточку, прислушалась. Шагов за забором слышно не было, но доносились звуки какой-то возни. Чем-то кто-то громыхал, что-то подтаскивал и чертыхался до боли знакомым отвратительным голосом.
Витек! Ну конечно! Кого еще могло принести в воскресное утро в семь тридцать? Только его, сердешного, мающегося постоянным похмельем. Только он мог позволить себе беспокоить честных граждан, когда ему вздумается, руководствуясь при этом одним-единственным принципом: если ему плохо, то плохо должно быть всем.
Над кромкой двухметрового забора возник заячий треух. Потом исчез, потом снова появился, и уже через минуту Витькина одутловатая рожа легла подбородком на бревенчатый срез. Катя скорее угадала это, чем увидела, хотя темнота заметно рассеялась, проступив неясными силуэтами деревьев.
– Катька-аа! – заорал он. – Вставай! Вставай и ворота отопри, дело срочное!!!
Катя не двинулась с места.
Может, повезет и этот алкаш уберется? Может, подумает, что она спит? Что ее нет дома…
Хотя нет. Ее машинка – маленький, сизого цвета «Опель» – у дома. Ее он теперь точно углядел, повиснув на заборе. Значит, хозяйка дома. И спать она из-за такого шума продолжать не смеет. Чуткая потому что и к шуму, и… к человеческим слабостям. А он – Витька – слаб! Очень слаб перед пороком, которым одержим.
Вот угораздило ее угостить однажды этого алкаша бабкиной самогонкой! Расплатиться решила за перекопанный огород. Расплатилась! Он теперь через день к ней под окна шастает и похмелиться просит.
– Катька-ааа! – голосил между тем Витька, ерзая забывшим бритву подбородком по бревенчатому срезу. – Дело на сто долларов!!! Не вру, ей-богу!!! Спасибо скажешь мне потом, дура!!!
«Он не уйдет», – поняла она с тоской, когда Витьке удалось подтянуться и оседлать забор. Он станет орать, потом спрыгнет на землю, пройдет до крыльца и будет колотить заскорузлыми кулаками в дверь.
Катя вышла в коридор, щелкнула выключателем, надела бабкину меховую куртку, предназначенную для кратких визитов во двор. Обулась в ее же резиновые с меховой подкладкой сапоги и начала отпирать замки.
Замков было три. Все с секретом. Последний отпирался, если первые два были не заперты. Иначе никак.
– Мне замки эти лучший медвежатник города делал, – хвалилась бабка Кате. – И на дверях, и на ставнях. В жизни не влезть в дом! Если только его не взорвать!
Кому понадобилось бы взрывать бабкин дом, Катя не представляла. Как не представляла себе, зачем столько хитроумных запоров в доме старой и почти одинокой женщины. Что прятать-то было?
– О, о, о, понесла, голытьба проклятая! – взрывалась сразу бабка, стоило Кате запутаться в запорах и начать ворчать. – Сами ничего не нажили и чужое готовы просрать!
– А чего тут брать-то?! – изумлялась она, будучи ребенком. – Комод с кроватью?
– Не твоего скудного ума дело! – злилась бабка и подозрительно ощупывала маленькими глазками каждую стенку, каждый угол, будто бревна проверяла на невредимость. – Родители твои и того не нажили. Забыла, с чем ко мне пожаловала, а? Забыла?!
Нет, не забыла. Она всю жизнь будет помнить, как вернулась из пионерского лагеря домой с дорожной сумкой, а дома-то и нет. Вместо него – обгоревший двухэтажный остов с обуглившимися стропилами и кроватными скелетами. А вместо детской площадки – взрытая колесами пожарных машин грязь. И еще яркая желтая лента, опоясывающая весь двор. И люди, пытающиеся прорваться сквозь ограждение, мимо участкового, которого поставили в наряд на неделю караулить улики.
– Нет там ничего! – орал он, отпихивая погорельцев. – Все уничтожил огонь, разве вы не знаете?
Катя не знала. Она не знала, что уничтожил огонь в ее жизни, когда вылезала из автобуса, доставившего детей из пионерского лагеря. Как-то так вышло, что ей не успели сообщить – ну замотались, – что ее родители погибли в огне, и все ее вещи погибли в огне, и вся ее жизнь была погублена этим огнем. Не сообщили, раскручивая следствие и опрашивая свидетелей. Даже бабке не сообщили. Потом уже был звонок в ее город, потом, после Катиного возвращения. После ее страшной истерики в детской комнате милиции.
Бабке позвонили. Она примчалась тем же вечером на такси, хотя это стоило целое состояние, на Катин детский взгляд, да и на взгляд бывших соседей, шепчущихся за их спинами. Схватила Катю в охапку, сунула на заднее сиденье желтой машины с таксистскими шашечками, приказав не рыпаться. Подписала кучу каких-то документов в милиции. Через два часа они уже выезжали из города.
– А на похороны-то, Василиса Степановна, не останетесь? – сунулся было кто-то к ней из кучки провожающих их соседей. – Как же так-то? Сын ваш все же! Сноха… Девочке они мать с отцом.
Бабка глянула на тетку так, что та поспешила укрыться за чьими-то широченными плечами.
– Формальности соблюдены. Деньги на похороны оставлены, – объявила она кучке народа, сбившейся в плотное стадо у ступенек милиции. – Схоронят… Да, и еще… Сына своего я в этой обгоревшей чурке не узнала. Так мусорам и сказала. Может, и не он это вовсе? А сноху я и вовсе не знала.
– Но как же! – возмутился все тот же настырный голос. – Настя же сноха-то. Настя…
Видимо, припомнили бабкин единственный визит сюда, когда она устроила грандиозный скандал своему сыну, посмевшему жениться против ее воли. Она недолго задержалась, но Настю – Катину мать – точно видела.
– Как же не знали-то? Настю-то?
– Не знала и знать не желала, – отрезала бабка, села в машину, толкнула таксиста в плечо. – Валим отсюда!
Так Катя оказалась в бабкином доме, который она построила за много лет до страшного пожара. Еще Катин отец тут жил подростком.
Дом был большим, двухэтажным, бревенчатым. С двухметровым бревенчатым же забором и добротными воротами, через которые, если их распахнуть пошире, запросто въезжали в их двор полностью груженные фуры.
Так Катя оказалась в бабкином доме с дорожной сумкой, в которой лежали две смены нижнего белья, две пары колготок, треники, юбка в складку, летнее платье и кеды. В отдельном кармашке – вафельное полотенце, мыльница, зубная щетка и использованный наполовину тюбик зубной пасты. Одета она в тот момент была в легкий сарафан, едва прикрывающий попу, и резиновые шлепанцы.
– И это все твое добро? – презрительно фыркнула бабка, высыпая из сумки Катины вещи на койку перед тем, как отправить все в мусорное ведро. – Негусто. Не особо баловали тебя родители.
Часто потом бабка перечисляла то, что в мусорку вышвырнула, ох часто! Катя поначалу обижалась, плакала, замыкалась в себе. Подолгу не выходила из своей маленькой спальни, которую бабка выделила ей на втором этаже. Потом она научилась терпеть скверный бабкин характер, ее безобразное воспитание и жаргон. А со временем даже привязалась к старой кряжистой женщине, хотя никогда бабушкой ее не называла.
Ознакомительная версия.