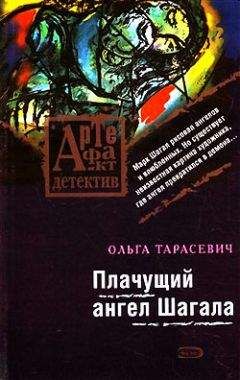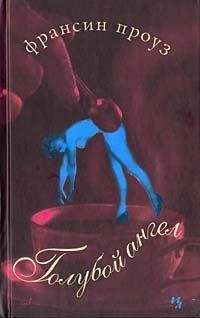Ознакомительная версия.
Ольга Тарасевич
Плачущий ангел Шагала
Моим любимым мамочке и папочке
Все события вымышлены автором.
Все совпадения случайны и непреднамеренны.
В одно мгновение все куда-то исчезло: тело, вещи. Растаяли. Растворились, стали бесплотными, неосязаемыми. Его впалая грудь, сутулые плечи, светло-рыжие редкие волосы, с которых вечно сыпалась перхоть. И поношенный мышиный костюмчик, и постоянно расстегивающийся портфель. Ничего этого больше не было!
Невероятное всепоглощающее счастье подхватило Юрия Петренко. Закружило вихрем над голубой веной своенравной Двины, оранжевой башенкой ратуши, пластмассовым оскалом Летнего амфитеатра. Потом вдруг, как картинки в калейдоскопе, замелькали кварталы старого Витебска. Революционная улица, Октябрьская, Покровская… Сверху домики, вытянувшиеся вдоль вымощенных булыжником переулков как часовые, казались трогательно-игрушечными.
Внезапно черное небо разорвалось и затрещало фейерверком искр.
– Бывает же такое, – едва слышно пробормотал Юрий. И, потирая ушибленный лоб, обошел черный металлический фонарь, протягивающий в ночь пригоршню дрожащего света.
Очнувшись от грез, мужчина с любопытством осмотрелся по сторонам. Родной город, даже днем томно-сонный, этой ночью спал особенно крепко. «А может, мне попросту приснилось, что я парю над Витебском, как герои картин Шагала? Эти его летающие влюбленные, скрипачи, коровы, – подумал Петренко и замедлил шаг. Дробь торопливой походки мешала ему рассуждать. – Я много времени проводил в архивах. Слишком большое количество литературы о Шагале пришлось изучить. Неудивительно, что вдруг возникло такое потрясающее чувство полета. Или это деньги так крышу сорвали?»
Денег у Юрия было много. Плотные пачки стодолларовых купюр едва умещались в старом портфеле.
Сто тысяч долларов! Подумать только!
Никогда ему не доводилось держать в руках такие деньжищи. И он представить даже не мог, что столь огромная сумма вдруг окажется в его единоличном распоряжении.
«Платок надо матери купить, – рассуждал Петренко, – непременно чтобы с бахромой и яркими узорами. И стиральную машинку, такую, где только на кнопочки нажимать нужно.
С отцом все ясно. Спиннинг хороший, из магазина «Рыболов и охотник», батяня на витрину давно заглядывается. А Любе…»
Сердце дрогнуло, заболело, сбилось с ритма. Так всегда случалось при мыслях о Любе. Юрий нерешительно остановился. Разве этим женщинам угодишь с подарками? Тем более таким красавицам, как Люба. Как Любовь Андреевна, с деланой строгостью подчеркивает бывшая одноклассница. А серые глаза за очками в тонкой оправе ее выдают, отражая смех и лукавство.
Нет, пусть для учеников она будет Любовью Андреевной. А для него – Любочкой, Любашей. И подарок ей вовсе не требуется. А нужно… Ну конечно! Замуж ее надо позвать, только так.
«Теперь есть куда звать, – подумал Юрий и нежно погладил бочок портфеля. – Все, закончилась холостяцкая жизнь в общежитии. Квартиру с Любой купим, детишки пойдут. Все у нас будет просто отлично».
– Просто отлично, просто отлично, просто отлично…
Он твердил это, как заклинание, но оно не помогло. Случилось именно то, чего Юрий так опасался. Стыд жаркой волной окатил его усыпанные веснушками щеки, смочил спину липким потом и напоследок сдавил грудь.
Кирилл. Друг, коллега, сосед по комнате. Талантливый ученый. Сердцеед, ловелас. Но – честный, открытый, искренний. Душа, кошелек, гардероб – все нараспашку. А он с Кириллом так подло обошелся! Предал. Подставил. Воспользовался результатами его работы.
– Ничего, цел будет, – со злостью прошептал Юрий. – С такими мозгами и внешностью не пропадешь. Мне о себе думать нужно. И Любочка на него заглядывалась…
Как всегда, окна общежития ярко светились. И, как обычно, Юрий отметил темный квадрат на первом этаже. Сосед по комнате редко ночевал в общаге. Из-за огромнейшего количества приглашений от симпатичных девушек странным казалось то, что Кирилл изредка все же появлялся в общежитии.
Идти в здание через центральный вход Юрию не захотелось. Уже поздно. Разумеется, вахтерша его пропустит. Но придется из вежливости спросить, как у нее дела, потом выслушивать абсолютно неинтересные подробности. Вот он, самый лучший вход, – открытое окно. Ночи стоят теплые, красть в комнате абсолютно нечего…
Он забросил портфель на подоконник, подтянулся и, несмотря на отсутствие света, вдруг понял: внутри помещения кто-то есть.
Еще бы мгновение – и Юрий бросился прочь, назад на улицу, в спасительный луч фонаря-прожектора, висевшего у входа в общежитие.
Но что-то тяжелое вдруг обрушилось на затылок. Боковым зрением Петренко лишь успел заметить, как бомж, собиравший возле кустов бутылки, замер с открытым ртом.
Потом наступила абсолютная темнота.
– Мошка! Мошка!! Мошка-а-а!!!
Устав кричать, Фейга-Ита вернулась в дом. Вскоре до Мойши Сегала,[1] примостившегося с блокнотом и карандашом в тени яблонь, донеслись голоса соседок.
– Какая селедочка в вашей бакалейной лавке!
– Жирная! Вкусная! Так и тает во рту!
Мать хлопотала, взвешивая селедку. Потом сразу же кому-то понадобились сахар и свечи.
…Мойше всегда нравилось наблюдать, как Фейга-Ита, невысокая, полная, все время находится в движении. То она суетится на кухне, и из печки вкусно пахнет приготовленными к Шаббату кушаньями. То качает люльку. В ней всегда сопит, сжав крохотные кулачки, малыш. Мойша помнит их всех – восьмерых братьев и сестер. Писклявые комочки, которые позднее становятся шустрыми товарищами. Мама всех растит. Всех кормит. И, едва звякнет колокольчик над дверью, несется прочь из кухни. Вместо прихожей в их маленьком домике на Покровской улице – бакалейная лавка. Мамочка бежит к покупателям, отпускает товар, пересчитывает деньги, дает сдачу. Устав, ерошит его волосы:
– Поговори со мной, Мошка!
Мойша молчит. Хочется сказать, что мамины ангелы розового цвета. Но он стесняется. Ведь смех Фейга-Иты после таких замечаний не умолкает долго, и возле светящихся добротой маминых глаз появляются лучики морщин.
Конечно, жаль, что мама ему не верит. Ведь ангелов на самом деле так много. Они парят над крышами домов родного Витебска, кружатся над Двиной, с удивлением рассматривают зеленые верхушки деревьев.
Первый раз Мойша увидел ангелов в доме дедушки.
Сверкнул острый нож, и, вздрогнув, коровка испустила дух, дед ловко управился с вытекающей кровью. И вот уже лежат в тазу куски дымящегося парного мяса.
«Я не буду тебя кушать», – обещает Мойша разделанной туше.
И не сдерживает это обещание. Бабушка так уговаривает внука попробовать тушеного мяса. Кусок застревает в горле, но… Бабушка, милая, родная, как ей отказать.
Весь двор заполнен коровьими шкурами. А над ними летают души убитых коровок. Ангелов много, очень много. Увидев их впервые, Мойша перепугался до смерти, мороз прошел по коже, страх сдавил горло. Но ангелы, белые, прозрачные, приветливо взмахивают крыльями и растворяются в черной свежей ночи, становятся звездами, далекими, дрожащими.
А папины ангелы – другие. Темно-синие, уставшие, они грустно кружатся над сидящим за столом отцом. В длинной папиной бороде, в волосах, на одежде – везде мерцают селедочные чешуйки.
По вечерам мама пододвигает к отцу горшочек, в нем вкусно пахнущее жаркое. Жаркое – только для папы. Он работает грузчиком в селедочной лавке, ворочает тяжелые бочки. Рассол заливает одежду, соль и чешуя, кажется, намертво впитались в папу, не отмыть, не избавиться. Хацкель[2] засыпает за ужином. Он так устает, что вечером лишается всяких сил. Только при взгляде на детей на его губах иногда мелькает едва уловимая улыбка.
Ах, как же горько смотреть на папины руки – мозолистые, распухшие.
Хацкель набрасывает талес, открывает Тору. Но, прочитав буквально пару строк, клюет носом, начинает посапывать. Тогда Фейга-Ита наскоро дочитывает молитву, задувает стоящую на столе свечу, и кухонька погружается в желтый полумрак. Тусклый свет керосиновой лампы рисует тени на выбеленных стенах.
Рисует…
Мойша долго не знал, что это такое – рисовать. В хедере преподавали идиш, иврит и Тору. Ходить в синагогу, отмечать Пурим, Суккот и Йом-Кипур,[3] молиться – все это было так же естественно, как дышать. Лишь когда мама отвела его в гимназию, а потом вышла к Мойше, сидевшему у кабинета директора, взволнованная и раскрасневшаяся, он впервые услышал что-то непостижимое. Непонятное.
– Мошка, бедный мой Мошка, – крохотный мамин подбородок задрожал, – директор говорит: в гимназию не принимают евреев. А еще он сказал, что будь его воля – он вообще запретил бы евреям жить в Витебске.
Мойша пытался осознать смысл маминых слов, но не мог. Здесь их дом. В этот, на Покровской улице, семья переехала, когда удалось скопить денег. А раньше жили в лачуге на Песковатиках. Рядом с тюрьмой и сумасшедшим домом. Мама рассказывала, что, когда он родился, в городе начался пожар. Все перепугались. И маленький Мойша перепугался и не хотел плакать, и все уже решили: не жилец. Но его положили в корыто с закругленными краями, и вот тогда он завозмущался…
Ознакомительная версия.